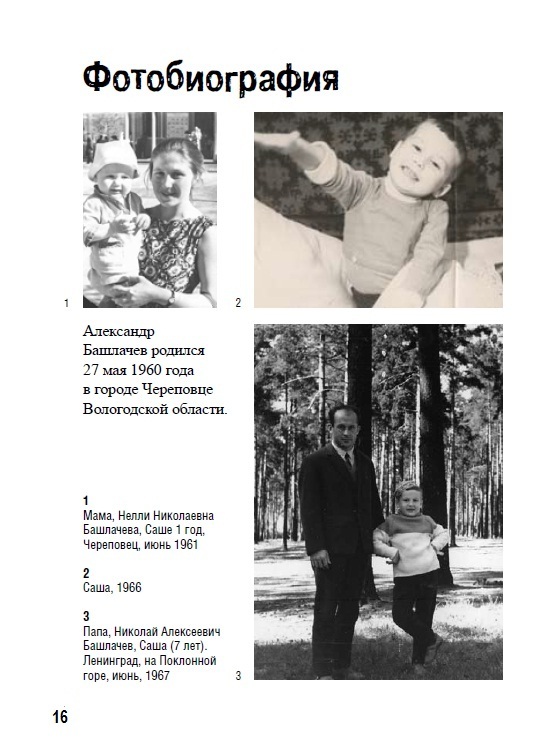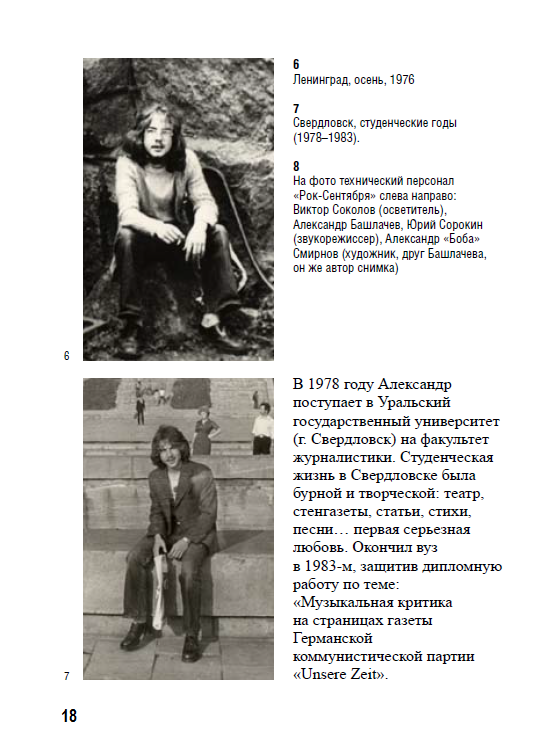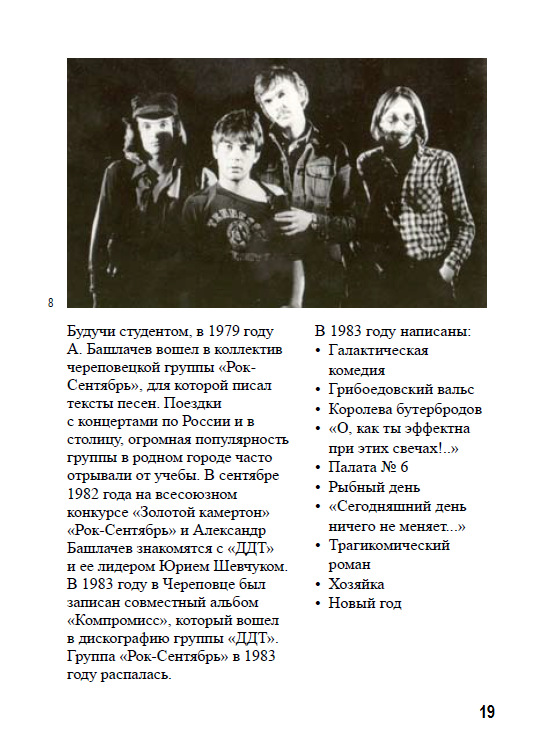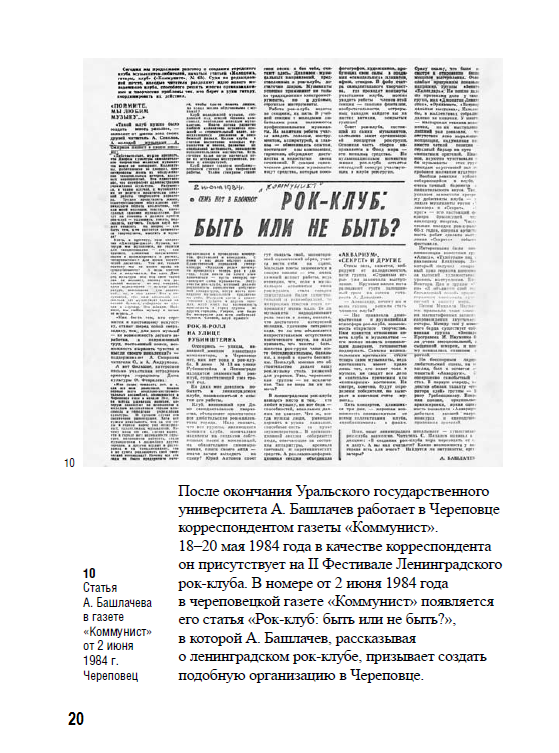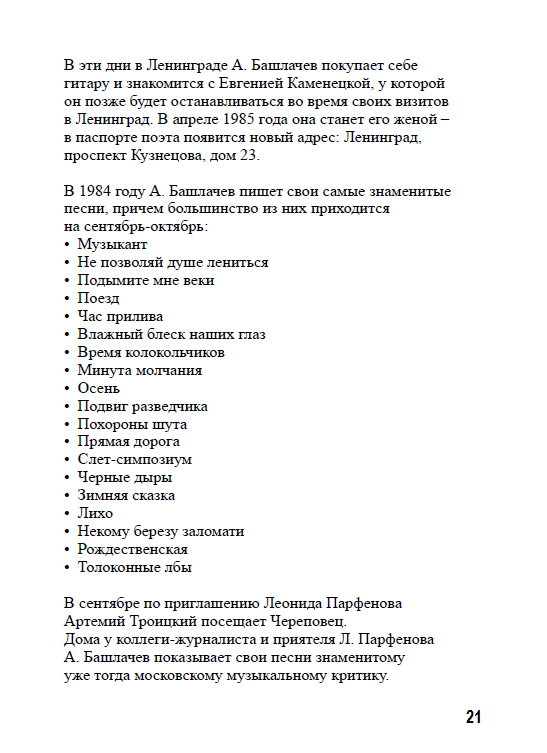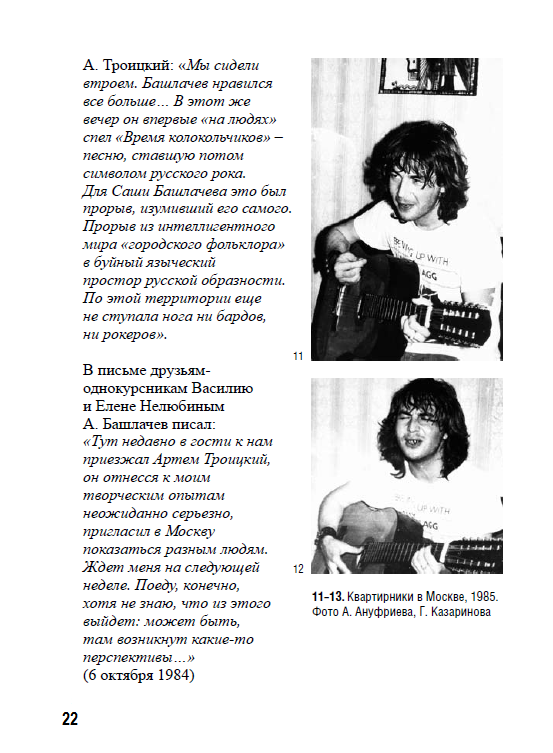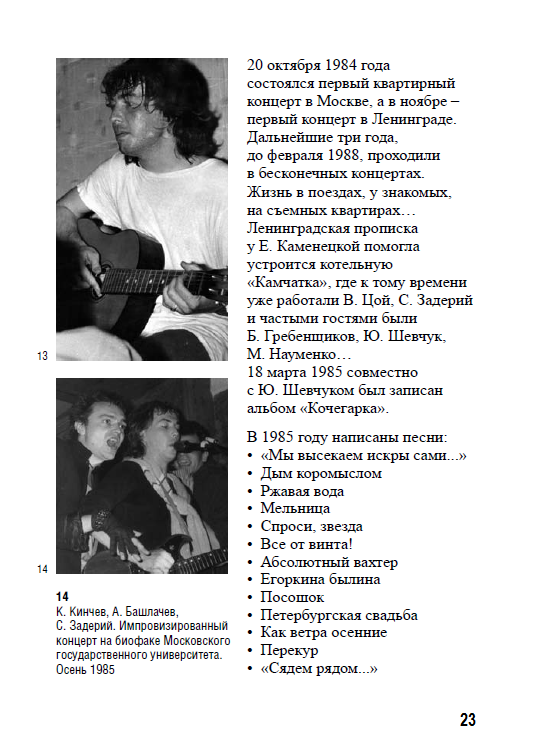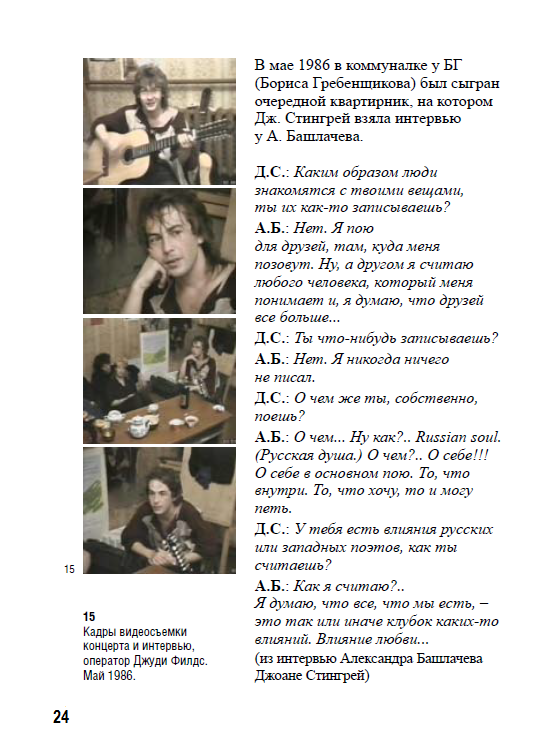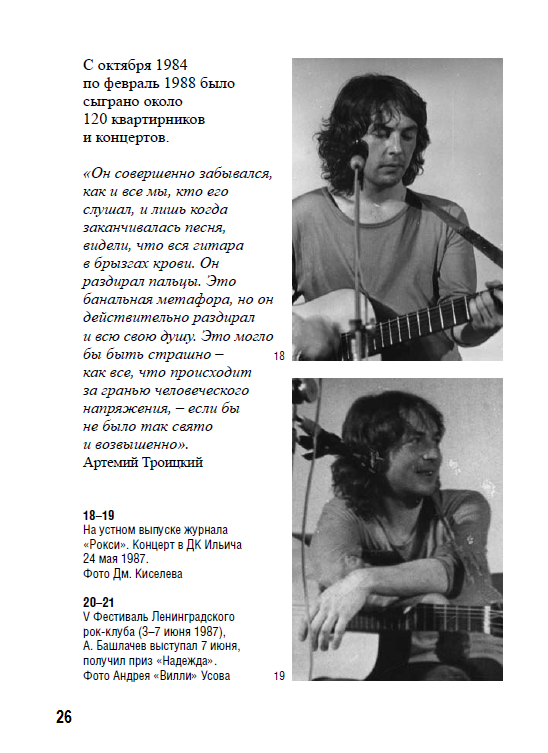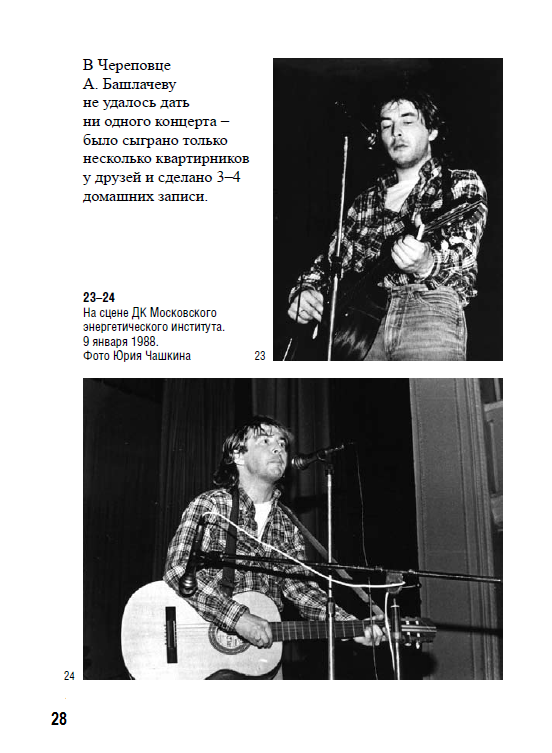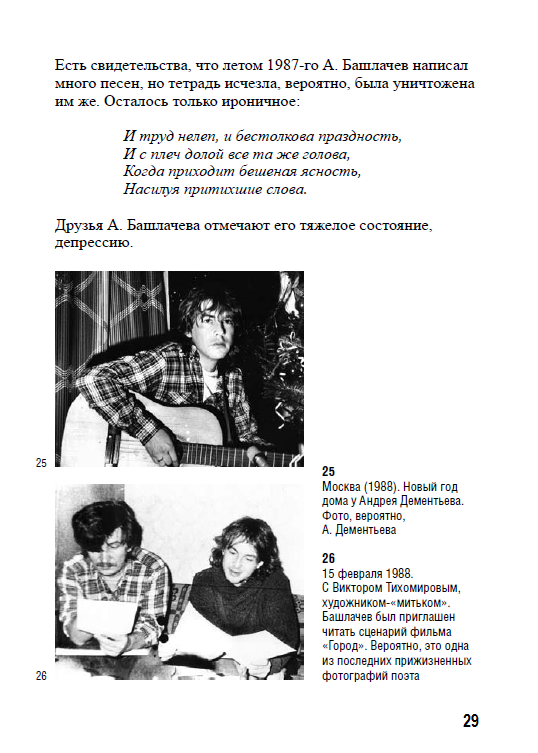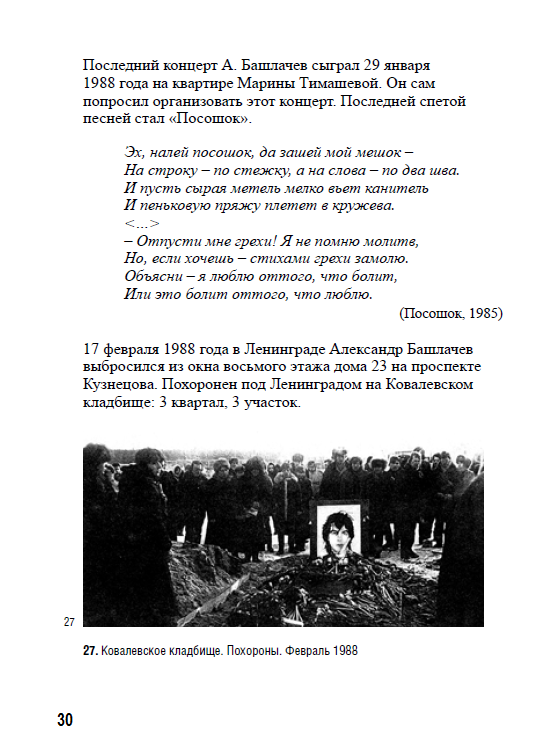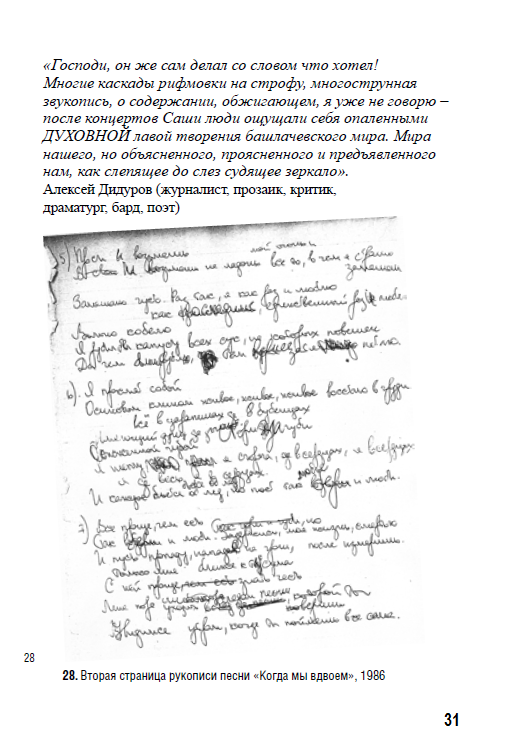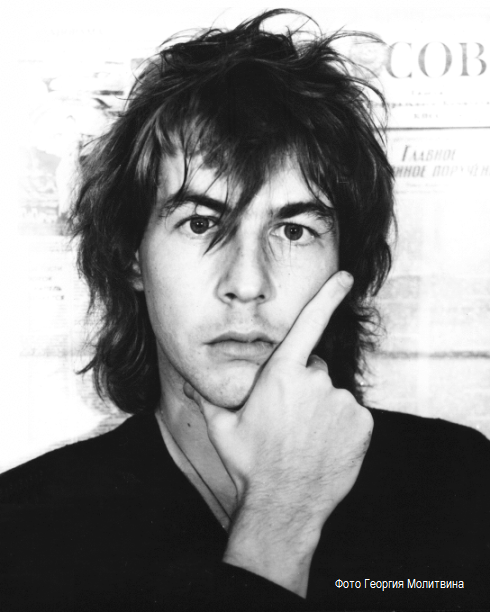Выходные данные статьи для цитирования:
Кошелев В. Время колокольчиков: литературная история символа // Александр Башлачёв: исследования творчества. / сост.: Л.Н. Дмитриевская. — М.: «Русская школа», 2010. С.95-123.
______________________________________________________________________________________________
с.94

с.95
«Время колокольчиков»: литературная история символа
Вячеслав Кошелев, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого,
действительный член Международной академии наук высшей школы.
Стихотворение Александра Башлачева «Время колокольчиков» давно уже сделалось своеобразной «визитной карточкой» русской рок-поэзии 1980-х годов. В основе этого стихотворения — яркий и прозрачный символ, приобретающий некоторую «понятность» лишь при целостном восприятии текста.
Долго шли — зноем и морозами.
Все снесли — и остались вольными.
Жрали снег с кашею березовой.
И росли вровень с колокольнями.
Если плач — не жалели соли мы.
Если пир — сахарного пряника.
Звонари черными мозолями
Рвали нерв медного динамика.
Но с каждым днем времена меняются.
Купола растеряли золото.
Звонари по миру слоняются.
Колокола сбиты и расколоты.
Что ж теперь ходим круг да около
На своем поле — как подпольщики?
с.96
Если нам не отлили колокол,
Значит, здесь — время колокольчиков.
Зазвенит сердце под рубашкою,
Второпях — врассыпную вороны.
Эй! Выводи коренных с пристяжкою,
И рванем на четыре стороны.
Но сколько лет лошади не кованы.
Ни одно колесо не мазано.
Плетки нет. Седла разворованы.
И давно все узлы развязаны.
А на дожде — все дороги радугой!
Быть беде. Нынче нам до смеха ли?
Но если есть колокольчик под дугой,
Значит, все. Заряжай — поехали!
Загремим, засвистим, защелкаем!
Проберет до костей, до кончиков!
Эй, братва! Чуете печенками
Грозный смех русских колокольчиков?
Век жуем матюги с молитвами,
Век живем — хоть шары нам выколи.
Спим да пьем сутками и литрами.
Не поем. Петь уже отвыкли.
Долго ждем. Все ходили грязные,
Оттого сделались похожие.
А под дождем оказались разные.
Большинство — честные, хорошие.
И пусть разбит батюшка Царь-колокол —
Мы пришли с черными гитарами.
с.97
Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл
Околдовали нас первыми ударами.
И в груди — искры электричества.
Шапки в снег — и рваните звонче-ка.
Свистопляс! Славное язычество.
Я люблю время колокольчиков! [1]
Стиховая семантика кажется почти прозрачной и как будто не предполагает необходимости какого-либо «анализа». Основной символ — «колокольчик», противопоставленный большому «колоколу». «Колокол» в данном случае — это некое обозначение общего деяния — «колокольчик» же сродни «сердцу под рубашкою» и становится способом совершения личного поступка, противопоставленного неестественному «общему».
Причем, использована идущая от традиций русской поэзии пушкинской эпохи мифологема, связанная именно с «дорожным», почтовым колокольчиком (а не с колокольчиком дверным или домашним). Роль этого «колокольчика» в данном случае исполняем «мы» «с черными гитарами» — и не даем погаснуть тому «курилке», который «жив», несмотря на все окружающие мерзости…
Внутри этой прозрачной семантики противоречиво существуют «коренные с пристяжкою», «не кованые» лошади, «немазаные» колеса, разбитые и залитые дождевой «радугой» дороги и «дуга» над колокольчиком. Если «колокол» предполагает некую стабильность: висит на своем месте, то «колокольчик» — знак именно дороги, движения… Привнесение же образа движения предполагает усложнение кажущейся ясной семантики — и требует обширного историко-бытового и историко-поэтического комментария с привлечением ярчайших образов того же плана в русской литературе явленных.
с.98
Исследователи часто обращают внимание на «цитатность» как яркий признак башлачевских стихов, где «ближние контексты» — это всегда «знак состояния, а не абстрактной идеи». С этой точки зрения важнейшей особенностью поэтики Башлачева становится «давление бытия на знак»: «Трагическая невозможность выразить невыразимое заставляет поэта постоянно “переворачивать” сложившиеся знаковые системы, вести бесконечную игру с означаемым на “чужом” языке» [2].
Напротив, символы тройки и колокольчика открывают для Башлачева не то явление, которое необходимо преодолеть, а как раз идеальную, желаемую данность «славного язычества». Но ведь сами эти символы принадлежат к реликтам «пушкинской эпохи», и никак не к будущему. Так что речь здесь идет не о тройке и колокольчике как таковых, а о знаках некоего литературного идеала. Сама же литературная история этого знака позволяет определить ряд дополнительных смыслов исходного представления «рок-н-ролла» как «свистопляса» [3].
«По всем по трем…»
«Эх тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи» [4].
Современный человек уже не улавливает в знаменитом гоголевском монологе о «птице-тройке» явного иронического оттенка. Тройка — три лошади, запряженные в один экипаж, — дей-
с.99
ствительно была чисто русским изобретением, русским приспособлением к дальним расстояниям и тряским дорогам.
Тройка вошла в широкое бытование лишь в начале XIX века. «В Екатерининское время, — свидетельствует М.И.Пыляев, — сани были двухместные, с дышлами, запрягались парою, четвернею или шестернею в цуг» [5]. Эта лошадиная пара — наиболее частый способ запряжки в веке XVIII-м, — между прочим, тоже стала предметом поэзии и даже сыграла свою роль в известной полемике «шишковистов» и «карамзинистов». В 1810 году один из лидеров «архаистов» С.А. Ширинский-Шихматов в стихотворении «Возращение в отечество любезного моего брата…» обозвал этот способ запряжки «высоким слогом»:
Но кто там мчится в колеснице
На резвой двоице коней?.. [6]
На это московский профессор М.Т. Каченовский в язвительной рецензии иронично заметил: «Хорошо, что приезжий гость скакал не на тройке» [7]. А сторонник «карамзинистов» В.Л.Пушкин в поэме «Опасный сосед» (1811) резво обыграл эту самую «двоицу»:
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы парой двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас.
Ну, к черту ум и вкус! пишите в добрый час!..
Как видим, к этому времени тройка уже существовала. Впервые в поэтическом тексте это слово употребил, кажется, К.Н.Батюшков: «На тройке в Питер улечу» (стихотворение «Отъезд», 1809). Да и сам В.Л.Пушкин, скорее всего, предпочитал тройку: именно на тройке отвозил он в 1811 году своего племянника из
с.100
Москвы в Петербург, о чем тот поведал в стихотворении «Городок» (1815): «На тройке пренесенный / Из родины смиренной / В великой град Петра…»
В ранних пушкинских стихах тройка еще не несла никакой особенной поэтической нагрузки, кроме простого обозначения средства передвижения. «Садись на тройку злых коней…» — обращается поэт в послании «К Галичу» (1815). Смысловая нагрузка здесь переносится на «злых коней», а «тройка» становится простым указанием на их количество, как в эпиграмме «Угрюмых тройка есть певцов…». Такое употребление сохраняется и позднее — например, в «Евгении Онегине»:
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей…
Даже эпитет к слову «тройка» ничего принципиально не менял. Вот в «Братьях-разбойниках» (1822): «Заложим тройку удалую…». Или в балладе «Жених» (1825): «Лихая тройка с молодцом». Тройка становилась самоценным образом лишь тогда, когда включалась в стихотворную ситуацию дороги, пути, — ситуацию, которая в поэзии неизбежно получала оттенок символического значения. Этот смысл образа тройки появился совсем неожиданно.
Символическую ситуацию пути Пушкин попробовал воссоздать в стихотворении «Телега жизни» (1823). Несложное внешне аллегорическое представление человеческой жизни как движения в телеге по тряской дороге, движения, меняющего свой характер вместе с переходом человека из одного возраста в другой, оказывалось очень многозначным. Жизненная «дорога» воспринималась как символ духовного преображения человека, определяющего особенно сложные пути к совершенству.
Это пушкинское стихотворение не предназначалось для печати: в конце второй строфы присутствовало нецензурное обсценное выражение, блестяще характеризовавшее возраст человеческой молодости:
с.101
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая страх и негу,
Кричим: валяй, ебена мать! (XIII, 126) [8]
Осенью 1824 года П.А. Вяземский принял деятельное участие в организации нового журнала «Московский телеграф» — и у Пушкина, находившегося в михайловской ссылке, стал настойчиво просить «что-нибудь на зубок» (XIII, 118). Пушкин отнюдь не горел желанием участвовать в этом предприятии, но и не хотел отказывать Вяземскому — тот только что выступил издателем «Бахчисарайского фонтана». Тогда Пушкин послал ему именно это, невозможное для печати, стихотворение — и приписал не без тайной усмешки: «Можно напечатать, пропустив русский титул…» (XIII, 126). Он, естественно, не предполагал, что «Телега жизни» может быть опубликована — и очень удивился, увидев ее напечатанной: «Что же Телеграф обетованный? Ты в самом деле напечатал Телегу, проказник?» (Письмо от 19 февраля 1825 — XIII, 144).
«Телега жизни» появилась в первом номере «Московского телеграфа» за 1825 год (вслед за стихотворением самого Вяземского «К приятелю»), а «русский титул» во второй строфе был очень удачно заменен «извозчичьим» титулом:
С утра садимся мы в телегу,
Мы погоняем с ямщиком
И, презирая лень и негу,
Кричим: валяй по всем по трем! [9]
Формально употребленное Вяземским «ямщицкое» присловье было не очень кстати: телега (крестьянская повозка), как правило, не запрягается тройкой лошадей. Однако поэтическая сторона этого «присловья» была по-своему замечательной.
с.102
Тройка прижилась в России как оптимальная упряжь для дальних путешествий по плохим дорогам. Во-первых, при этом способе запряжки лошади занимали пространство шире, чем повозка (сани, карета, коляска, бричка, дрожки и т.п.) — в результате значительно уменьшалась опасность падения седока. Хотя, конечно, полностью такая возможность не исключалась даже на больших почтовых трактах: Чацкий в комедии «Горе от ума», рассказывая Софье историю своего путешествия от Петербурга до Москвы, подчеркивает: «И растерялся весь, и падал сколько раз!». Во-вторых, при движении на тройке нагрузка в пути распределялась по трем лошадям, и оттого лошади меньше уставали. Такой способ запряжки — что замечательно — позволял регулировать нагрузку, приходившуюся на каждую из лошадей. Жестко закреплялась только средняя лошадь (коренник), которой помогали две пристяжные. В нужный момент ямщик кнутом или вожжой подхлестывал одну из пристяжных; та начинала бежать быстрее и тянуть сильнее, благодаря чему и давала возможность передохнуть соседней лошади.
Так родился фразеологизм по всем по трем, возникший из ямщицкой поговорки «По всем по трем, коренной не тронь, — а кроме коренной нет ни одной» [10]. Хлестнуть «по всем по трем» означало ударить кнутом по всем лошадям сразу — и тем самым резко убыстрить движение повозки. Ямщики, естественно, в обычной практике пользовались таким ударом крайне редко — лишь в некие особенные минуты, когда «душа развернулась» и оказалась особенно расположена к увеличению скорости: «И какой же русский не любит быстрой езды?»
Подслушавший это ямщицкое присловье Вяземский и употребил его вместо пушкинского «русского титула». Особая образность этого фразеологизма создавала неожиданный эффект — и Пушкин принял его: в издании стихотворений 1826 года он поместил «Телегу жизни» в редакции Вяземского. Но уже в сле-
с.103
дующем издании (1829) предпочел частично вернуться к «матерной» редакции, заменив обсценное выражение показательной фигурой умолчания, еще более выражавшей образ человеческой молодости:
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!…… (III, 306)
Между тем, «игра» Пушкина и Вяземского с «русским титулом» имела и еще одно, неожиданное следствие. С легкой руки Вяземского выражение по всем по трем вошло в русскую поэзию, а русская тройка стала чуть ли не национальным символом.
В том же 1825 году, вслед за публикацией в «Московском телеграфе» им воспользовался Ф.Н. Глинка в стихотворении «Сон Русского на чужбине». Содержание этого большого стихотворения — ряд меняющихся эпизодов и образов «заветной русской стороны», которые предстают во сне русскому человеку, находящемуся вдали от родины. Один из эпизодов прямо связан с тройкой:
И мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик — дар Валдая –
Гудит, качаясь, под дугой… и т.д.
Далее «младой ямщик» запевал грустную песню «про очи девицы-души», которая завершалась полюбившимся Глинке фразеологизмом:
«…Теперь я горький сиротина!»
И вдруг махнул по всем по трем…
с.104
Для много писавшего Глинки «Сон Русского на чужбине» был вполне «проходной» вещью: гораздо большее значение он в то время придавал поэтическим аллегориям или переложениям псалмов. Он напечатал свое стихотворение в петербургской «Северной пчеле» [11], но эта скромная публикация невесть каким образом была замечена, а фрагмент о тройке (хотя и не имевший сюжетной завершенности) превратился в народную песню: через год-два он попал в популярные песенники и даже в лубок [12]. В 1832 году Глинке пришлось даже написать авторскую редакцию этой песни; она была помещена в «Русском альманахе на 1832-1833 год» (СПб., 1832), изданном большим тиражом и предназначенным для широкого круга грамотных русских людей. Новая редакция имела ряд отличий от первоначального фрагмента стихотворения, а, главное, отрывок был семантически «закольцован» и ситуация разрешалась показательным финалом:
«…Теперь я горький сиротина».
И вдруг махнул по всем по трем.
И тройкой тешился детина,
И заливался соловьем.
Слово тройка в этой публикации выделялось курсивом — в манере Федора Глинки, любившего подчеркивать опорные слова. При этом поэтический облик тройки существенно расширялся: дорожный экипаж становился едва ли не живым, мыслящим существом, движущимся как будто сам собою. «Ямщик» являлся как некая принадлежность тройки (а не наоборот!), а для «седока» места и вовсе не находилось. К тому же тройка обрастала характерными сопровождающими реалиями: столбовая дорога, «однозвучный» колокольчик, поющий ямщик…
С этими непременными атрибутами тройка не замедлила явиться и в прозе. И.И. Лажечников в романе «Последний Но-
с.105
вик» (1831), действие которого происходит в Петровскую эпоху, дал подробное описание «красивой колымаги, запряженной в русскую упряжь тремя бойкими лошадьми»; рядом оказался «статный» молодой ямщик в «поярковой шляпе» и «кумачовой рубашке», который, как водится, залился унылою песнею» в то время, как «колокольчик, дар Валдая, бил меру заунывным звоном» [13]. Автора не смутили явные исторические неувязки: в начале XVIII века не было еще ни троек, ни колокольчиков, ни красных «простонародных» рубах… Лажечникову понадобился символ «русскости» — и он не смог устоять перед обаянием поэтической находки Федора Глинки.
В 1840 году Н. Радостин (Анордист) в издаваемом им альманахе поместил большую пиесу (почти поэму!) под названием «Тройки, переделанные, четыре». В пиесе этой он довольно наивно и неловко представил расширенную — сюжетную — вариацию того же стихотворения Глинки. Но что интересно: первая из этих «четырех троек» стала, в свою очередь, распространенной народной песней — «Гремит звонок, и тройка мчится…» [14].
«Троек» в русской поэзии можно насчитать около сотни…» — констатировал И.Н. Розанов [15]. Все они, так или иначе, прямые наследницы «глинковской» «Тройки». Во всяком случае, поэтическая ситуация развивается на фоне тех же атрибутов: «тройка борзая бежит», «долгие песни ямщика», «колокольчик однозвучный», «версты полосаты» (А.С. Пушкин, «Зимняя дорога», 1826); «светит месяц, тройка мчится по дороге столбовой», «родные звуки русской песни удалой» (А.С. Пушкин, «В поле чистом серебрится…», 1833); «колокольчик однозвучный, крик протяжный ямщика» (П.А. Вяземский, «Дорожная дума», 1830)… И так далее…
Фигура ямщика возникает в каждой из этих «Троек» — но почти не появляется фигуры седока, ради которого и по воле которого, собственно, и предпринято все это движение на тройке…
с.105
«Кто сей путник? и отколе?..»
Есть у Василия Шукшина рассказ «Забуксовал» (1971), в котором описана нетрадиционная «читательская» ситуация. Герой рассказа, механик Роман Звягин, слушая, как сынишка зубрит гоголевский отрывок о «Руси-тройке», внезапно задумался о смысле этого образа: «Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер…», «Так это Русь-то Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?..», «Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим?..» Для уяснения этого неожиданного недоразумения механик идет к школьному учителю, который может дать лишь традиционную интерпретацию: «Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе…» На вопрос, как же быть с Чичиковым-то, и у школьного учителя нет ответа. Он в конце концов констатирует: «Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так не подумал. И ни от кого не слышал. <…> Вот ведь!.. И так можно, оказывается понять» [16].
Шукшинскому герою, читателю ХХ века, пришло в голову то, что не приходило ни читателям прошлого столетия, ни самому Гоголю — не приходило именно потому, что возникший в народной песне и закрепившийся в народном сознании образ тройки выступал как семантически самодостаточный и как будто не предполагал, что в тройке может находиться еще какой-то «путник». «Путник» был как будто лишним — и в этом смысле «неразличимым» — поэтическим образом.
В первых набросках знаменитое пушкинское стихотворение «Бесы» (1830) начиналось так:
Тройка едет в темном поле
Колокольчик дин дин дин
Скучно страшно поневоле
Средь белеющих равнин (III, 832)
с.107
При дальнейших переделках Пушкин уточнял прежде всего фигуру субъекта движения. Сначала «тройку» заменил «путник» («Путник едет <в> чистом поле»: III, 832), затем — лирическое «мы» («Едем, едем в чистом поле»: III, 834), наконец — лирическое «я» («Еду, еду в чистом поле»: III, 236). Сама возможность подобной «цепочки» вариантов, обозначающих субъекта движения, демонстрирует, во-первых, то, что исходная «тройка» поэтически воспринималась не только как живое (ср. в одном из вариантов: «Тройка стала и храпит…»: III, 836), но и как полноценно мыслящее существо; во-вторых, что этот субъект движения оказывался изначально связан с идеальными возможностями человеческого «я»; в-третьих, он оказывался семантически «неинтересен» — его можно было и «пропустить»… Если «тройка» то же самое, что «путник», «мы» и «я» — то какой смысл обозначать какие-либо дополнительные характерологические черты этого «я»? И не все ли равно, кто едет в конкретной русской «тройке» — Чичиков или какой-нибудь Правдин — важна сама поэзия движения…
Все это усугублялось той особенностью, что в русской поэзии пушкинской эпохи существовала установка на некую коллективную разработку сходных мотивов. Устойчивый поэтический образ «тройки» возник, как мы видели, из неявного творческого содружества Пушкина, Вяземского и Глинки — «соседние» с этим образом поэтические мотивы тоже тяготели к повторению. Так, одновременно и независимо друг от друга Пушкин и Вяземский создают поэтические описания «метели» — и восприятие ее путником, застигнутым метелью в дороге. Пушкинские «Бесы» (1830) и стихотворение Вяземского «Метель» из цикла «Зимние карикатуры» (1829) обнаруживают неожиданное сходство в разработке основных мотивов и даже параллелизм основных семантических ситуаций.
Но лирический герой в обоих стихотворениях принципиально различен. В «Зимних карикатурах» Вяземского — это иронический скептик, готовый создавать именно «карикатуры» на бытовые неурядицы и неувязки. Пушкинский герой — серьезный,
с.108
измученный настоящим положением «путник», прежде всего обеспокоенный некоей ненормальностью, алогичностью предстающего перед ним бытия. В этом бытии являются и демонологические существа: у Пушкина это «бесы разны», «домовой», «ведьма» (а в ранних вариантах были еще «бесенок», «черти», «мертвые», «русалки»: III, 836-837); у Вяземского — «леший», «зверь с царства тьмы», «черти», «бесенок лютый», «адский пересмешник» и даже «дьявол» («И в шапке дьявол колобродит»). Но даже эти фантастические персонажи не помогают конкретизировать облик тех, перед которыми они являются. И в конце концов все заслоняется привычными знаками: вьюга, неизбежная тройка с колокольчиком и долгая зимняя российская дорога…
«Зимние карикатуры» Вяземского были опубликованы в альманахе «Денница» на 1831 год; пушкинские «Бесы» — в «Северных цветах» на 1832 год. Тогда же, в упоминавшемся «Русском альманахе…» появилась «Тройка» Ф. Глинки. А в конце 1833 года Вяземский передал для альманаха «Новоселье» стихотворение «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет…»). Его стих (четырехстопный хорей с перекрестной рифмовкой) повторял стих пушкинской «Зимней дороги» и «Бесов», а основные «троечные» мотивы и атрибуты представали в неожиданном облике. В новом представлении «тройки» наконец-то возникал и «путник». Но возникал в лунном свете: в противовес пушкинским «Бесам», где луна присутствует «невидимкою», здесь «месяц», кажется, готов раскрыть «лицо» этого путника: «И посыпал снег зыбучий / Прямо путнику в лицо…»
Но не тут-то было: дальнейшая серия риторических вопросов демонстрирует, что нам так и не «узнать» этого, на миг освещенного месяцем путника, моментально проносящегося в житейском калейдоскопе явлений:
Кто сей путник? и отколе?
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?
с.109
Образ лирического «я» («путника») здесь менее значим и менее интересен, чем собственно «тройка», «кони», «дорога», «ямщик» и, конечно же, «колокольчик». Из всех известных «Троек» русской поэзии разве что в «Тройке» Н.А. Некрасова (1846) этот «путник» хоть как-то охарактеризован:
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет…
Но это — и все: ничего иного о каких-то нравственных качествах «проезжего корнета» мы никогда не узнаем. Субъект путешествия становится принципиальным «незнакомцем», проезжающим «мимо» настоящей жизни. Дела и думы его ничтожны — хотя бы в сравнении со звоном колокольчика.
«Колокольчик однозвучный…»
В «Начале автобиографии» Пушкин подробно рассказывает о жизни своего прадеда Абрама Петровича Ганнибала и, сообщая о гонениях, которые постигли «царского арапа» после смерти Петра Великого, вставляет в рассказ следующую деталь: «До самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика» (XII, 312).
Деталь эта явно недостоверна и, несомненно, выдумана Пушкиным на основе собственного житейского опыта — равно как и «колокольчик Пугачева» в «Капитанской дочке» (VIII, 354). Дело в том, что ни при Ганнибале, ни во времена пугачевского восстания колокольчиков в России еще не было — тем более так называемых «фельдъегерских» колокольчиков, предвещающих беду… Поддужный колокольчик в государственном и почтовом обиходе пушкинского времени заменил прежний рожок, загодя извещавший об очередном приезде почты. Самый ранний из известных нам валдайских колокольчиков датируется 1802 го-
с.110
дом — ранее последних десятилетий XVIII в. колокольчик вряд ли мог появиться и в личном обиходе помещиков. В пушкинские же времена «колокольчик» выступает как яркая знаковая деталь именно личного, поместного обихода:
Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.
Граф Нулин
Здесь колокольчик воспринят как знак «предвещания», символ счастливой и неожиданной встречи. Символ «приключения», наконец — «Для барышни звон колокольчика есть уже приключение…» (VIII, 110). Н.Я. Эйдельман обратил внимание на то, что колокольчик как знак сопровождал Пушкина всю его жизнь: «Колокольчик — это дорога, заезжий друг; колокольчик — это страх, предписание…<…> Колокольчик загремит у Михайловского и в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года: фельдъегерь, без которого “у нас, грешных, ничего не делается”, привозит свободу, с виду похожую на арест. Колокольчик увез Пушкина в Москву, вернул в Михайловское, затем — в Петербург, Арзрум, Оренбург — и провожал в последнюю дорогу…» [17].
И Пушкин (в «Зимней дороге»), и Вяземский (в «Дорожных думах») сразу же определили одну характеристическую черту колокольчика в одинаковой строке: «Колокольчик однозвучный». Эта «однозвучность», как родовое качество музыкального инструмента (колокольчик способен издавать только один звук) — черта не только «надоедливая» («утомительно звенит», «гудет уныло под дугой»), это и деталь, определяющая каждый колокольчик как индивидуальность. У того же Пушкина можем отыскать указания на особое звучание «почтовых», «дилижансных»
с.111
и «фельдъегерских» колокольчиков (VIII, 97) — если первые несут новую весть или новые впечатления, то последний является знаком беды… Есть даже указания на некие индивидуальные звучания колокольчика, прямо указывавшие (уже звоном своим), кто именно едет: «Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами» (VIII, 354); «Чу! колокольчик, слава Богу, это исправник» (VIII, 218).
Валдайские колокольчики были знамениты именно тем, что они, отливавшиеся в многочисленных кустарных мастерских на Валдае (крупной почтовой станции по дороге из Петербурга в Москву), не только издавали особенно мелодичные «серебряные» звоны, но при желании могли добиться «непохожести» и неповторимости каждого звона, слыша который, близкие люди узнавали: едет такой-то. Поэтому и возникло сочетание «дар Валдая» (из надписи, отлитой на некоторых колокольчиках: «Кого люблю — тому дарю»): колокольчик действительно «дарил» путешественнику индивидуальность «голоса» во время поездки.
…мой двор уединенный <…>
Твой колокольчик огласил —
— такую антиномию выстраивает поэт в послании, посвященном воспоминанию о приезде Пущина в Михайловское в январе 1825 г. «Мой двор» — знак индивидуальности лирического «я» — оказывается сопоставлен с «колокольчиком» лирического «ты», таким же знаком индивидуальности и самостоятельности.
Сочетание «дар Валдая» к концу ХIX столетия стало настолько распространенным и даже устойчивым, что Достоевский в шутку предлагал воспринимать его в составе песни как глагольную форму — деепричастие — и, соответственно, предлагал новый глагол дарвалдаять. В начале 1870-х годов он объяснял его следующим образом: «Смешнее представить себе нельзя чего-нибудь, как город Валдай, дарящий колокольчики.
с.112
К тому же глагол этот известен всей России, трем поколениям, ибо все знают тройку удалую, она удержалась не только между культурными, но даже проникла и в стихийные слои России <…> Но все, во всех слоях, пели дар Валдая не как дар Валдая, а как дарвалдая, то есть в виде глагола, изображающего что-то мотающееся и звенящее; можно говорить про всех мотающихся и звенящих или стучащих — он дарвалдает. Можно даже сделать существительное “дарвалдай”…» [18].
В 1830-1840-е годы мифология «колокольчика» стала особенно распространенной. В России еще не было железных дорог, способных облегчить дальние путешествия. С другой стороны, количество путешествующих непременно увеличивалось (что создавало сложности на почтовых станциях, описанные тем же Пушкиным). Неминуемое приближение эры железной дороги, означавшей непременное «обезличивание» путешествующих (во всяком случае, «звуковое») приводило к частому «очеловечиванию» именно «однозвучного», «своего» колокольчика. Характерно, что в финале комедии Гоголя «Ревизор» Городничий, подчеркивая полную победу Хлестакова над уездными чиновниками, забивает в качестве «последнего гвоздя»: «Вот он теперь по всей дороге заливает колокольчиком!» [19].
Эта «однозвучность» могла поэтизироваться по разным показателям. Так, в знаменитом романсе А.Л. Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик…» (на стихи Н.П. Макарова) предметом становится унылая «песнь ямщика», которую тот затянул под «утомительный» звон «однозвучного» колокольчика — именно в этой унылой песне наиболее адекватно отражается, по мысли автора, образ самой великой России…
Вместе с тем, «однозвучность», становясь знаком индивидуальности, нисколько не мешает ни разнообразию мелодии, ни игре воображения. При всей «однозвучности» —
с.113
Колокольчик громко плачет,
И хохочет, и визжит.
По дороге голосисто
Раздается яркий звон;
То вдали отбрякнет чисто,
То застонет глухо он.
Буйная «игра» колокольчика предстает как «русской степи, ночи темной поэтическая весть». Ибо, воспринимаясь как «однозвучный» — то есть характеристический для одного конкретного человека, колокольчик при этом не терял и своей связи с «общим» происхождением — от колокола вообще и вечевого колокола в частности.
«…Колокольчик Спасской башни Кремля»
Стихотворение Александра Башлачева «Зимняя сказка», построенное, как и многие его стихи, на реминисценциях из русской поэзии, на обыгрывании прежних шлягеров, начинается строкой, намекающей на упоминавшийся выше романс Гурилева-Макарова, получающий абсурдное продолжение:
Однозвучно звенит колокольчик Спасской башни Кремля.
В тесной кузнице дня лохи-блохи подковали Левшу…
Абсурдность усиливалась смысловым несоответствием: на Спасской башне Кремля размещаются знаменитые часы — «кремлевские куранты», ставшие знаковым символом России. Исполнявшие некогда мелодию старого российского гимна и «Коль славен…», они, по приказу Ленина, были перестроены на исполнение «Интернационала» — гимна обновленной России. Современники Башлачева хорошо знали драму Н. Погодина «Кремлевские куранты» с ее центральной сценой — беседой Ильича и
с.113
часовщика. Перемена мелодии, которую играли часы, имела для советской власти значение нового символа.
Ни «Интернационал», ни исполнявшаяся теми же часами мелодия «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» не звучали «однозвучно», а бой самих часов на Спасской башне никак не напоминал ни звон колокола, ни звук русского колокольчика. Вместе с тем, введение мотива «башни Кремля» ориентировало не столько на «колокольчик», сколько на «колокол» — нечто более подходящее для «башни».
Колокол — уже по своему происхождению слово, ориентированное на выражение чего-то «общего». Общеславянское по генеалогии, оно заключает в себе следы двух индоевропейских корней: коло — круг (отсюда уменьшительное: «кольцо») и кол — глухой вариант корня гол — звук (см. «глагол» — речь, изреченный звук, «голос» и т.п.). Изначальный смысл его, в соответствии с происхождением слова, может быть определен как «звук из круга», «круговой» (то есть общий) голос.
Представление о колоколе сопряжено с понятиями «большой», «звучный», «могучий», «величественный». Особенные достоинства колокола определялись его величиной: самый большой из колоколов получал название «Царь-колокол», а на колокольнях большие колокола звались именами собственными (колокол «Сысой» на звоннице Ростовского кремля). Колокол поневоле выражал представление об «общем гласе», что соответствовало его функции — созывать людей вместе для молитвы или для решения какого-то общего дела. Его звук — выражение «гласа народа»: по указанию В.И. Даля колокола при церквах «зовутся также Божьим гласом». Поэтому колокол — олицетворение величия, спокойствия и стабильности:
В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба
Грянула. С треском кругом от нее разлетелись осколки,
Он же вздрогнул — и к народу могучие медные звуки
Вдаль потекли, негодуя, гудя и на бой созывая.
с.115
Автор этого маленького стихотворения А.К. Толстой отмечал, что всего лишь описал действительный случай, происшедший во время Крымской войны. Сам образ колокола был достаточным основанием для того, чтобы воспринять этот случай как символический…
Колокольчик — это, по значению, идущему от словообразования, «маленький колокол». Помимо «маленьких» колоколов, употреблявшихся у ямщиков, были и другие: дверной колокольчик, ручной колокольчик (для вызова прислуги), колокольчик на шею скоту (ботало) и т.д. Однако значение, организующее поэтическую мифологию, приобрел прежде всего именно дорожный колокольчик, приобретший, как указано выше, функцию индивидуализации, выделения его носителя из ряда других личностей.
Поэтическое различие «мифов» колокола и колокольчика ярко определилось в одном из ранних стихотворений Игоря-Северянина:
Глухо каялся грешный колокол –
Это медное сердце собора.
Он эфир колол, глубоко колол,
Как щепу, звук бросал у забора.
В предзакатный час неба полог — ал;
Звуки веяли в алые долы…
И пока стонал хмурый колокол,
Колокольчик смеялся удало… [20]
На эту «мифологию» в сознании русского человека нового времени неизбежно наслаивались еще и собственно политические мотивы. Россия, согласно официальной идеологии, сформировавшейся как раз в «пушкинскую» эпоху, изначально существовала как исконно «самодержавная» страна, и потому в ней в
с.116
принципе не мог утвердиться иной образ правления. В противовес этой официальной идеологии возникал идеализированный образ «здравого русского вече» и «новгородской республики», существовавшей в истории более четырех веков. Символом республики и «новгородского вече» стал колокол.
Новгородская республика была разрушена в 1478 году Иоанном III, который, в частности, повелел отвезти в Москву символ этой республики — вечевой колокол. В пушкинские времена это деяние было осмыслено как национальная трагедия:
Вольницу избили,
Золото свезли,
Вече распустили,
Колокол снесли…
Э.И. Губер «Новгород», 1839
Именно «снесенный» колокол становился тем символом последнего разорения, которое несло русской республике самодержавие. Новгородские «вольнолюбцы» разных эпох — Вадим, казненный еще Рюриком, или Марфа Борецкая — идеализировались и символически связывались с тем же колоколом. В 1840 г. Л.А. Мей написал большую историческую балладу «Вечевой колокол», в которой трагедия «снесенного» колокола раскрыта в образе «тризны печальной», которая восстает из колокольного звона.
Сохранилось предание о том, что этот вечевой колокол так и не доехал до ненавистной Москвы: где-то под Валдаем он выпал из повозки и разбился на тысячи маленьких валдайских колокольчиков… Это предание тоже стало предметом известной баллады К.К. Случевского (1880):
Разбили колокол, разбили!..
Сгребли валдайцы медный сор,
И колокольчики отлили,
И отливают до сих пор…
с.117
И, быль старинную вещая,
В тиши степей, в глуши лесной,
Тот колокольчик, изнывая,
Гудит и бьется под дугой!.. [21]
Здесь «колокол» и «колокольчик» оказываются связаны самым непосредственным образом: «колокольчик» — специфический «наследник» мятежных общественных настроений «колокола». Если же учесть особенности отличия колокола от колокольчика в вещном аспекте, то выходит, что изначальная знаковая ориентированность колокольчика на символизацию человеческой индивидуальности, на обретение «своего голоса» оборачивается наибольшей политической опасностью для властей…
Поэтому кажущееся абсурдным сочетание «колокольчик Спасской башни кремля» приобретает дополнительный оппозиционный смысл.
«Колокольчики мои, цветики степные…»
1859 годом датируется стихотворение А.А. Фета «Колокольчик», кажется, посвященное тому же поддужному инструменту:
Ночь тиха, как дух бесплотный,
Теплый воздух онемел;
Но как будто мимолетный
Колокольчик прозвенел.
Тот ли это, что мешает
Вдалеке лесному сну
И, качаясь, набегает
На ночную тишину?
с.118
Или этот, чуть заметный
В цветнике моем и днем,
Узкодонный, разноцветный,
На тычинке под окном?
Поэт как будто не может различить дорожного колокольчика от цветка колокольчика — и тот и другой характерно «звенит» в ночи — который из них в этот раз? Существование колокольчика-цветка как бы подчеркивает живое бытие дорожного колокольчика, «удостоверяя» его природную сущность.
Современная биология выделяет целое семейство колокольчиковых (Campanulaceae), включающее около 2300 видов растений [22]. Наиболее распространенным в средней России является «колокольчик раскидистый» (Campanula patula) — дикорастущее травянистое растение, цветки которого по форме действительно похожи на маленький колокол. Кроме того, цветки обладают способностью позванивать на ветру; отсюда народное название этого растения — «балаболка».
Пятью годами раньше Фета А.К. Толстой опубликовал стихотворение о колокольчиках-цветах — стихотворение, тоже ставшее народной песней. Писалось оно в 1840-х годах и было не только собственно лирическим, но и политическим: «звон» цветков-колокольчиков связывался в нем с важнейшими событиями русской истории. В этом смысле наиболее показательной была ранняя редакция этого стихотворения:
Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что звените вы в траве,
Темно-голубые?
Старину ль зовете вы?
Будущие ль годы?
с.119
Новагорода ль вам жаль?
Дикой ли свободы?..
Функция дорожного колокольчика, примененная к колокольчику-цветку, существенно видоизменялась. Тот своим характерным звоном должен был обозначать некоего индивидуального человека — седока или хозяина. Степные цветки никому не принадлежат — поэтому звонят, что называется, «обо всех» — и, конечно, о русской истории, движением которой определена жизнь и современная судьба этих «всех».
В последующих редакциях стихотворения было убрано это перечисление мотивов старины — тем «звона» колокольчиков. Зато появился мотив езды, бега, сопряженный с традиционным представлением о колокольчике под дугой:
Конь несет меня стрелой
На поле открытом,
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом… [23]
Введенный мотив движения в данном случае еще более расширил исходную символику «колокольчика». Знак индивидуальности, звук отдельной «личности», колокольчик к тому же стал исполнять мелодию, сопряженную с исходной «оппозиционной» наполненностью этой личности относительно к существующим порядкам в стране, и при этом стал осознаваться, помимо всего прочего, живым, естественным, «природным» существом, кровно связанным с общерусскими задачами. Эта мифология «колокольчика» опять-таки преломляется в поэзии Башлачева в очень причудливых образах:
Как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки,
Как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке.
с.120
Душа гуляла,
Душа летела,
Душа гуляла
В рубашке белой,
Да в чистом поле
Все прямо, прямо.
И колокольчик
Был выше храма…
Ванюша
Какой именно «колокольчик»? цветок?.. Наверное, цветок — потому что символ принимает в данном случае «сборный» облик: и цветок, и «однозвучный» предмет, который «под дугой», и сердце, которое «звенит под рубашкою» — все это становится «выше храма», ибо только оно своей знаковой символикой способно противостоять неуютному и неустроенному быту людей, которые «строили замок, а выстроили сортир»…
И рядом — та же непременная «тройка», способная «унести» куда-то в иной быт, к иным знаковым комплексам и превращается в знак лирического желания:
Кони мечтают о быстрых санях –
Надоела телега…
Осень
Звенели бубенцы. И кони в жарком мыле
Тачанку понесли навстречу целине…
Петербургская свадьба
Ни узды, ни седла. Всех в расход. Все до тла.
Но кой-как запрягли. И вон — пошла на рысях!..
Посошок
Мы запряжем свинью в карету,
А я усядусь ямщиком,
с.121
И двадцать два квадратных метра
Объедем за ночь с ветерком…
Мы льем свое больное семя…
Мечта о «быстрой езде» остается мечтой — и, соответственно, уходит и «колокольчик», оставшийся непонятным и неясным «звоном», который оказывается во вполне чуждом контексте то смерти, то «вязкой копоти»:
Да кто вам сказал, что шуты умирают от скуки?
Звени, мой бубенчик! Работай, подлец, не молчи!
Похороны шута
Прозвенит стекло на сквозном ветру,
Да прокиснет звон в вязкой копоти,
Да подернется молодым ледком…
Егоркина былина
И звуковой образ «звона» странно сопрягается со зрительным образом «звезды»:
…ведь подать рукою –
И погладишь в небе свою заново рожденную звезду,
Ту, что рядом, ту, что выше,
Чем на колокольне звонкой звон.
Да где он? — Все темно…
Сядем рядом…
Звезда! Я люблю колокольный звон…
С земли по воде сквозь огонь в небеса звон…
Спроси, звезда
Самое интересное, что все эти видимые фантасмагории насквозь литературны: при желании здесь можно выделить десятки характернейших поэтических мотивов. Собственно, это обстоя-
с.122
тельство признавал сам Башлачев. В интервью, данном газете «Рекламно-информационное обозрение», на вопрос: «Что такое рок?» он ответил: «Рок — это слияние разных мифов, только поданных в современном изложении».
С этой точки зрения лирика Александра Башлачева — это реквием по русской классической поэзии, ориентированный на прошлый век и — конкретно — на «пушкинское» время. И если во «Времени колокольчиков» фигурирует «Царь-колокол», то в стихотворении «Петербургская свадьба» — «Царь-Пушкин». Обратим внимание: стихотворение написано в ноябре 1985 г., когда никакого «Петербурга» не было. Но не было, по существу, и «Ленинграда». Был «Питер», город, в котором, по выражению Башлачева, «не можно жить, а стоит жить».
В цитированном выше интервью приведено интересное рассуждение «СашБаша»: «Возьми хотя бы название города — Питер. В моей голове оно читается Пиитер. Постоянно. Помнишь: “Пиитер, я — поэт…” Но это слово для меня связано не с пиететом, а с корнем “пить”. Это гораздо проще. Я, в основном, стараюсь идти к старым корням. Я глубоко убежден, что любой город хранит в себе свою древнюю географию. Люди ее не помнят, но она есть. В одном месте была березовая роща, а в другом рос столетний дуб, еще в каком-то была топь. И они естественным образом связаны с нашим временем. Эта нить — что называется, связь времен — никогда не рвалась. Скажем, где была топь, там никогда не построят храм. Через 200 лет на месте березовой рощи — спокойный район, а где была топь — наоборот, опасный так или иначе. А где был дуб — срубили его и построили храм. Самое главное, когда лес рубят, его рубят на корню, то есть корни всегда остаются в земле. Они могут тлеть сотни лет, могут смешаться с землей, но они остались — корни этих деревьев. По моему убеждению, это не может не влиять на весь ход последующих событий…» [24].
В «Петербургской свадьбе» это же рассуждение «опрокинуто» на общественные «корни»:
с.123
За окнами — салют… Царь-Пушкин в новой раме.
Покойные не пьют, да нам бы не пролить.
Двуглавые орлы с подбитыми крылами
Не могут меж собой корону поделить.
Подобие звезды по образу окурка.
Прикуривай, мой друг, спокойней, не спеши.
Мой бедный друг, из глубины твоей души
Стучит копытом
сердце
Петербурга.
В 1970-80-е годы, время основного творчества А. Башлачева, наблюдался характерный всплеск «всенародной» любви к Пушкину, к декабристам, очередной взлет «народного пушкиноведения», ознаменованный множеством книг разного толка о пушкинской эпохе… Эта эпоха в те годы стала знаковой: она была наиболее показательной с точки зрения противостояния множественным мерзостям современности. Элементом массовой культуры стали шариковые ручки, стилизованные под гусиные перья — символ «свободного творчества», невозможного в новую эпоху. Явилось множество романизированных и идеализированных биографий «кавалергардов» и «синих гусар» — декабристов, «благородных» цареубийц. Возникла романтика дуэльных пистолетов, столь непохожих на автоматы Калашникова. Ну и, естественно, явилась «тройка удалая» и «колокольчик однозвучный»…
В единственном некрологе погибшего Башлачева, напечатанном в феврале 1988 года в том же «Рекламно-информационном обозрении», было написано: «Когда-то Арсений Тарковский очень точно заметил: гений приходит в мир не для того, чтобы открыть новую эпоху, а для того, чтобы закрыть старую. Досказать то, что не смогли досказать другие, подвести итог и поставить точку. СашБаш закрыл собою время колокольчиков».
Грустно, но с этим приходится соглашаться.
_____________________________________________________________
[1] Стихи А. Башлачева цитируются по машинописному сборнику, составленному череповецкими друзьями «СашБаша» после его гибели. В этом сборнике учтены сохранившиеся автографы поэта и варианты его концертных исполнений.
[2] Николаев А.И. Словесное и до-словесное в поэзии А. Башлачева // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература. Исследования и материалы. Иваново, 1998. С.207.
[3] Напомним, что существует вариант предпоследней строки «Времени колокольчиков»: «Рок-н-ролл! Славное язычество.»
[4] Гоголь Н.В. Мертвые души // Собр. соч.: В 9-ти тт. М., 1994. Т.5. С.225.
[5] Пыляев М.И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 1889. С.195.
[6] Здесь и далее в цитатах, кроме оговоренных случаев, курсив наш.
[7] Вестник Европы. 1810. №19. С.222.
[8] Произведения Пушкина цитируются по Большому академическому изданию (Тт. 1-16, АН СССР, 1937-1949). В скобках указывается том и страница.
[9] Московский телеграф. 1825. №1. С.49. Курсив источника.
[10] Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. М., 1994. Т.2. С.49.
[11] Северная пчела. 1825. №74, 20 июня.
[12] См.: Песни русских поэтов. Л., 1988. Т.1. С.610.
[13] Лажечников И.И. Соч.: В 2-х тт. М., 1986. Т.1. С.413.
[14] См.: Песни русских поэтов. Т.1. С.534-536.
[15] Песни русских поэтов. XVIII — первая половина XIX века. Л., 1936. С.575.
[16] Шукшин В. Собр. соч. в 6-ти тт. М., 1993. Т.3. С.124–128.
[17] Эйдельман Н. Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С.344.
[18] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт. Т.21. Л., 1980. С.264.
[19] Гоголь Н.В. Указ. соч. Т.4. С.282.
[20] Северянин Игорь. Соч. в 5-ти тт. СПб., 1995. Т.2. С.161.
[21] Случевский К.К. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1962. С.175.
[22] Жизнь растений в 6-ти тт. Т.5. Ч.2. М., 1981. С.447-459
[23] Толстой А.К. Полн. собр. стихотв. в 2-х тт. Л., 1984. Т.1. С.502-503, 55-57.
[24] Рекламно-информационное обозрение. 1988 № 2 (18).