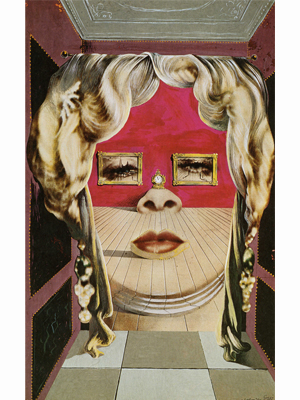|
Княжна Мери
«Вчера я приехал в Пятигорск»...
Вчера – это 10 мая, поскольку сказано об этом в записи 11 мая…
И здесь мы сразу сделаем отступление от основного текста.
Повесть «Княжна Мери» написана в форме дневниковых записей, имеющих свои даты. Пусть не удивляет то, что в книге С.Н. Дурылина даты отличаются от современных изданий. Причем существенно: расхождение более чем в 10 дней. Это не опечатки, а следствие того, что было использовано самое авторитетное в его время издание 1937-го года, а в издании сочинений Лермонтова 1948-го года под редакцией Б.М. Эйхенбаума датировки были изменены. Так печатают с тех пор всегда.
Датировки, сохраненные и в нашем издании, соответствуют прижизненным публикациям романа, а Б.М. Эйхенбаум выправил это по рукописи «Княжны Мери».
Вот сопоставительный ряд этих дат, причем в верхнем ряду мы даем дату современных изданий; различия начинаются после 21 мая, итак:
|
21.05 |
22 |
23 |
29 |
3.06 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16.06 |
|
21.05 |
29 |
30 |
6.06 |
13 |
12 |
13 |
14 |
15 |
18 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27.06 |
Доведя хронологию до конца, отметим, что в нынешнем варианте дуэль приходится на 17 июня; 18-го Печорин в 5 утра вернулся после скачки за Верой и заснул до конца дня; 19-го на курьерской тройке умчался из Кисловодска с приказанием явиться в крепость N: если это и есть крепость Максима Максимыча, то туда он явится только осенью (так что здесь тоже какой-то провал во времени, если все выстраивать в одну цепочку; впрочем, задержки при следовании к месту службы – не редкость, так поступал и сам Лермонтов).
По прижизненным изданиям – соответственно 28 июня, 29 и 30-го (немного ближе к осени).
Эйхенбаум решил выправить даты по рукописи, чтобы создать эффект полного правдоподобия в течении дней, словно все идет взаправду. Но разве Лермонтов не видел свои издания, не готовил их, включая черновой оттиск, как отмечено в самом авторитетном издании сочинений – в 6-ти томах (АН СССР, М.–Л., 1957. Т. 6, с. 650)? Ведь даже выходили оба прижизненных издания в Петербурге именно тогда, когда там жил Лермонтов… Почему говорят о какой-то «ошибке» с датами – там же, с.655?
Да потому, что ряд чисел в прижизненных изданиях выглядит нереальным: ну как может за 13 июня следовать 12-е, потом снова 13-е… Эйхенбаум решил еще и так: 21 мая Печорин говорит о завтрашнем бале в ресторации, а бал вроде происходит 29-го? Хочется, чтобы все шло строго, как по расписанию. А в качестве аргумента в пользу передатировки комментаторы еще указывают, что Грушницкий 30 мая благодарит Печорина за то, что было вчера на балу, уже заведомо числя бал нужным им 22-м числом (см. у В.А. Мануйлова, с. 280), тогда вроде явная бессмыслица (там же). Но, положим, бессмыслица, если судить именно в духе обновленной датировки, т.е. из другой системы отсчета, иначе никакой бессмыслицы и нет: да, 30-го мая Грушницкий благодарит Печорина за то, что было 29-го, все верно…
Ну а если Лермонтову и нужна была какая-то очевидная деталь, опровергающая всю правдоподобность дневников? Тогда вот она – только не 29 мая, а 13 июня, которое идет перед 12-м! А вот эту ошибку поправили еще раньше, до Эйхенбаума, поставив число 11-е. Так, выправляя прижизненное издание, и создавали все более правдоподобную картину. Стремился ли к этому Лермонтов, представляя записки Печорина именно в форме дневника?..
Почему бы тогда не поправить даты и в «Записках сумасшедшего» Н.В. Гоголя? Как это так: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое»? Но почему бы и не подумать, что Лермонтов мог даже ориентироваться на этот опыт Гоголя (повесть 1835 года публикации) и сознательно дать нарушение хроники?
Эйхенбаум и все за ним повторяют, что даты, поставленные в нынешних изданиях именно восстановлены по рукописи. И читатель не сомневается, что исследователь просто исправил даты в издании 1948 года в полном соответствии с рукописью. Хотя это тоже не бесспорный метод, и мы считаем, что вышедшее в печать, да еще при жизни и участии автора произведение уже говорит само за себя, надо его воспринимать как нечто совершенное и завершенное, выправлению по рукописи могут подлежать только абсолютно не значащие, технические ошибки. Так, скажем, Лермонтов где-то написал не Печорин, а Печоринин, даже ошибся в цитате пушкинского стиха («последняя туЧка рассеянной бури» было в рукописи), но подобные случаи уже были выправлены в печати.
С датировками все не так очевидно, как принято считать.
Дело в том, что Лермонтов вводил в рукопись несколько нумераций, это, очевидно, было его характерной чертой – нумеровать, поэтому в варианте предисловия даже говорилось с укоризною: «На тетрадках не было выставлено чисел; некоторые, вероятно, потеряны, потому что между ними нет большой связи». В рукописи же Лермонтова нумеровались не только сами части романа, повести, но и отдельные записи печоринского дневника (например, «Фаталист. Тетрадь III»). Разного рода нумерациями вообще испещрены записи Лермонтова (ср.: рисунок «Крестьянские типы» с педантичными номерами у всех изображений; записи из раздела «Заметки, планы, сюжеты» с перечнем тридцати пяти номеров, особенно – запись 27, пронумерованную изнутри и проч.); ключом к такому острому интересу к цифре можно взять строки из «Вадима»: «О если б волю можно было б разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы»; Лермонтов недаром имел высокий балл по математике в своем аттестате. В рукописи «Княгини Лиговской» тоже много цифр, причем в первой строке Лермонтов меняет 15 декабря на 21 декабря и даже час дня, что отражает его пристальное внимание к датам.
Итак, в рукописи шли вначале просто параллельно две нумерации: дата и номер записи. Так, после первой даты 12 мая стоит цифра 1. Кстати, мы не ошиблись: в рукописи именно так, первая запись помечена не 11-м, а 12-м числом. Почему Эйхенбаум не выправил и эту дату, уж если все приближать к рукописи? А почему бы не восстановить рукописные тучки, а там и название: в рукописи – «Один из героев начала (вариант – нашего) века»? И уж, конечно, дать Вуич вместо Вулича, Максимович вместо Максимыч…
Мы сейчас введем весь ряд цифр, у которых нет указания месяца. А внизу – цифры с указанием месяца. Вот как:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
16= |
|
12 мая |
13 мая |
16 мая |
21 мая |
22 мая |
23 мая |
29 мая |
3 июня |
4 июня |
5 июня |
Как?! А где же остальные даты в рукописи – хотя бы до 16 июня, ведь осталось еще восемь записей? А их нет вовсе, после записи 5 июня Лермонтов нигде не указывает месяц. Эйхенбаум все оставшиеся цифры и отнес к числам месяца, разумеется, вписав от себя указания на июнь, начиная с цифры 6! Это было бы логично, если бы, по крайней мере, не существовал в рукописи ряд, начинавшийся параллельно датам. Но когда остался один, и именно без указания месяца, почему его надо было считать продолжением датировки, а не продолжением обычной нумерации, доведенной до цифры 16? Да и цифра 16 в рукописи повторилась дважды и исчезла при публикации подобно цифрам 1–4.
Одним словом, налицо какая-то путаница в числах, по крайней мере, нет оснований считать, что Лермонтов именно в рукописи четко датировал печоринские записи, а Эйхенбаум полностью восстановил это. Более очевидным будет представление, что в рукописи вопрос с датировкой не был решен и решился только при сдаче в печать. Исследователь не восстановил рукопись, а добавил к пустым цифрам указание месяца, что может восприниматься только как возможная, но вовсе не обязательная версия. Стоило ли из-за этого перечеркивать прижизненную печатную датировку, с которой роман читался на протяжении более 100 лет? Роман уже состоялся в литературном опыте с прижизненной датировкой, вот и книга комментариев С.Н.Дурылина – тому подтверждение.
И мы увидим, что выправили-то далеко не все мнимые ошибки: см. также наш комментарий в Приложении (там же подробно разобраны свойства дневника как условного жанра), а также – к записи от 6 июня «Княжны Мери». Здесь лишь выведем нашу общую оценку: дневник не должен восприниматься как хроника реальных событий, он может преподноситься автором романа как сплошной вымысел Печорина…
А пока вернемся к тому, что Печорин пишет, как он поселился в Пятигорске – с 10 мая… – А.А.
Пятигорск расположен при минеральных серных и кисло-соленых горячих источниках на небольшой равнине, покатой к реке Подкумку, с северо-востока защищенной громадною массою горы Машука, к которой примыкают здания минеральных ванн. С северо-запада горизонт ограничивается остроконечными вершинами пяти-гория, отчего и самый город получил название Пятигорска. Основание русского поселения при водах относится к 1780 г., но распространение населенности собственно при самых источниках началось не ранее 1820 г. В 1830 г. поселение это возведено на степень уездного города, и стало носить название Пятигорска» .
Пятигорск в 1838 г. имел такой вид:
«Город построен на левом берегу Подкумка, на покатости Машука, имеет одну главную улицу с бульваром, который ведет в гору, на коей рассажена виноградная аллея Елизаветинского источника, где устроена крытая галерея. В различных местах горы, в недальнем расстоянии, бьют серные ключи различной температуры, от 21° до 37º теплоты... При тихой погоде летом, при тумане зимою, по всему городу распространяется сильный серный запах» .
Пейзаж, которым открывается «Княжна Мери», следует также сравнить с описанием Горячеводска в анонимных «Письмах с Кавказа», напечатанных в 1830 году:
«Домик, в котором живем мы, стоит на высоте, господствующей над всем местечком. Сзади, над самою головою нашею возвышается Машука, покрытая лесом и кустарником; внизу перед нами, как в панораме, поставлен Горячеводск, так что все крыши домов пересчитать можно. Прямо через них взор упирается в скалу, на которой построены Александровские и Ермолаевские ванны. Немного правее видна мутная Подкумка; за нею необозримая степь, на коей местами возвышаются горы, похожие видом на курганы или насыпи. Далее в ясную погоду виден Эльбрус, со всею цепью гор Кавказских, которые, как шатры, белеются на небосклоне, и блестящими льдистыми верхами подпирают свод неба» .
Первые впечатления Печорина от Пятигорска, обстановка и самый образ его первоначальной жизни там, очень напоминают то, что пишет Лермонтов М.А. Лопухиной из Пятигорска в письме от 31 мая 1837 г.:
«У меня здесь очень хорошее помещение: каждое утро вижу из своего окна цепь гор и Эльбрус; вот и теперь, когда я пишу это письмо, я время от времени останавливаюсь, чтобы посмотреть на этих великанов: они прекрасны и величественны. Собираюсь основательно поскучать все время, покуда буду оставаться на водах, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам и уже от этого одного укрепил себе ноги; я только и делаю, что хожу: ни жара, ни дождь меня не останавливают... Вот вам мой образ жизни, милый друг».
«Последняя туча рассеянной бури...» –
стих из «Тучи» А.С. Пушкина (1835).
См. в нашей статье о композиции романа значение этой цитаты. Предварительно отметим, что стихотворение было напечатано в июне 1835 года в журнале «Московский наблюдатель» (майский выпуск), и 11 мая можно было бы его процитировать не ранее чем в 1836 году. – А.А.
«Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка» –
отзвук юношеского (1830 г.) обращения Лермонтова к Кавказу «Синие горы, приветствую вас!», где есть стих: «Воздух там чист, как молитва ребенка». В свою очередь стих есть отклик на характеристику дочери Яфара из «Абидосской невесты» Байрона: «чиста, как у детей молитва на устах» (перев. И.И. Козлова).
«Солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?» –
одно из частых у Лермонтова противопоставлений покоя и безмятежия природы – беспокойству и мятежу человека. Ср. в «Валерике» (1840):
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек,
Чего он хочет?.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспокойно и напрасно
Один враждует он – зачем?
Лермонтовское описание «водяного общества» в точности совпадает с зарисовками мемуаристов: «В то время съезды на кавказские воды были многочисленны, со всех концов России. Кого, бывало, не встретишь на водах?.. Со всех концов России собираются больные к источникам, в надежде, и большею частью справедливой, исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься и поиграть в картишки. С восходом солнца толпы стоят у целительных источников со своими стаканами. Дамы с грациозным движением опускают на беленьком снурочке свой стакан в колодезь; казак, с нагайкой через плечо, обыкновенною его принадлежностью, бросает свой стакан в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, морщится и не может удержаться, чтоб громко не сказать: «чорт возьми, какая гадость!». Легко-больные не строго исполняют предписания своих докторов держать диэту, и я слышал, как один из таких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, что получил из колонии двух славных поросят и велел их изжарить к обеду» .
Совершенно так же описывает «водяное общество» корреспондент «Московского Телеграфа» :
«После обеда почти все посетители в одно время собираются для питья воды к кислородному колодцу. Место этого сборища составляет площадка, образующаяся, так сказать, на первой ступени горы Машуки. Вся огромная масса горы защищает площадку от севера, а каменистая скала, отрог той же горы, – от юга. Растущие по обеим сторонам кусты шиповника, дубки и выдавшиеся из скал огромные, седые камни делают это место и диким и довольно приятным. Люди, которые сходятся к кисло-серному колодцу, составляют картину пеструю, живую, разнообразную. Там вы увидите и франта, одетого по последней моде, и красавицу в щегольском наряде и черкеса в лохматой шапке, и казака, и грузинку, и грека, и армянина, и калмыка с косою и с огромным блюдом на голове... Глядя на все это, невольно скажешь:
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!..»
Посылая Онегина убивать скуку на «минеральные воды» (9 глава романа, 1829–1830), Пушкин посылал его по проторенной дорожке, по которой ранее и позже Онегина, до 1838 г., странствовали на «воды» сам Пушкин, Раевский, Батюшков, А. Бестужев, Белинский, Сатин, Огарев и др.
«Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум».
В цензурно-приемлемой форме Лермонтов дает здесь понять, что на Кавказе при Александре I и особенно при Николае I было легко встретить офицеров, переведенных в виде наказания из гвардии в армейские полки (как Печорин и сам Лермонтов), или разжалованных в солдаты (как многие декабристы). Число таких подневольных офицеров-армейцев и рядовых было так велико, что «образованный ум под белой фуражкой» сделался привычным гостем военного общества на Кавказе. «Пылкое сердце под нумерованной пуговицей» – псевдоним людей столичной военной среды, платившихся мни кавказскою ссылкой за независимость характера и суждений, не терпимых Николаем I и его приспешниками.
Товарищ Лермонтова по службе на Кавказе, Руфин Дорохов, был три раза разжалован из офицеров в солдаты – по официальному определению – «за шалости», т. е. за независимость своего поведения .
«По выражению одного из офицеров, Карла Ламберта, в ту эпоху существовали только две дороги в России: первая, доступная единственно для весьма немногих привилегированных лиц, шла из Петербурга в Париж; вторая, открытая для всех остальных смертных, вела на Кавказ. И укатали же эту дорожку до такой степени, что весьма часто случалось офицерам, едущим по казенной необходимости, сидеть по трое суток на станции в ожидании лошадей» .
Отметим повтор пафосных слов о нумерованной пуговице со словами Грушницкого в этой же записи: «И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?». Вскоре Печорин отвечает Грушницкому французской фразой, стараясь подделаться под его тон… Но Лермонтов делает и еще ряд уже не сознательных, не пародийных повторов. «Неужели зло так привлекательно?» (Печорин) = «Ни в ком зло не бывает так привлекательно» (Вера в письме); «Я всегда приобретал … непобедимую власть» (Печорин) = «В твоем голосе есть власть непобедимая» (Вера в письме); «Княжна меня решительно ненавидит» (Печорин) = «Я вас ненавижу» (Мери). О чем говорит такое дублирование слов (а ряд можно было бы еще продолжать: Печорин = Грушницкий, Вернер, княгиня Лиговская, подросток-слепец («Только?»), Вулич)? Этот достаточно монотонный прием может говорить и о влиянии Печорина, о подражании ему, но очевиднее другое: все герои записок созданы Печориным, несут его авторский отпечаток. И он весьма односторонний, тенденциозный автор, показывающий свое всяческое преимущество над героями. Это заложено и в основной сюжет «Княжны Мери» и в отдельные его линии, вроде многократного обыгрывания солдатской шинели Грушницкого или выполнения такого рода пророчеств Печорина: «Она станет тебя мучить» = «Вы меня мучите, княжна» (Грушницкий, запись 5 (13) июня) и пр. Всевластие автора становится и просто неправдоподобным: в «Фаталисте» рисуется сцена разговора покойного Вулича с пьяным казаком за мгновение до убийства – как Печорин мог узнать эти слова? Мануйлов даже предположил (с. 188), что этот диалог могли слышать казаки, но едва ли тогда бы состоялось убийство – вблизи этих казаков, которые разговор, получается, слышали и в точности передали офицерам, а видеть сцену – не видели… Все видит и слышит один «автор» – Печорин. Герои «Записок» не выписаны как вполне самостоятельные, живые, оригинальные характеры. Следует и сам дневник прочитывать как чисто художественное произведение, а не хронику реальных событий. Иначе нарочитость и грубость печоринского письма надо отнести к недостаткам собственно Лермонтова. А зачем, если Лермонтов заслонен Печориным как автором записок? Подробнее – см. в Приложении. – А.А.
«Несколько раненых офицеров сидело на лавке, подобрав костыли, – бледные, грустные».
«Военные экспедиции на Кавказе», по замечанию декабриста А.Е. Розена, «кончались в июне». Пятигорск переполнялся военными. «Гвардейские офицеры, после экспедиции, нахлынули в Пятигорск, – вспоминает Н.И. Лорер о 1838 годе, – и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодежи; вод не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после трудной экспедиции. Они бывают также у источников, но без стаканов; их заменяют лорнеты, хлыстики... Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами» . Лермонтов здесь уделяет внимание только одной группе офицеров: тяжело больных, измученных войной. Офицерство, веселящееся на водах, изображено у него далее резко отрицательно. В «водяном обществе» Лермонтов не мог поместить декабристов-офицеров и солдат (Н.И. Лорер, кн. В.М. Голицын, кн. А.И. Одоевский, бар. А.Е. Розен и др.), которые именно в эти годы (1837 – 1838) лечились на водах. Отсутствуют у него и разжалованные офицеры типа Р.И. Дорохова.
«Несколько дам скорыми шагами ходило взад и вперед по площадке, ожидая действия вод».
В черновике было: «большими шагами». Добиваясь точности эпитета, Лермонтов заменяет «скорыми»: ускорение шага доступно всем, но сделать шаг «большим» невозможно тому, у кого он от природы маленький.
Несколькими строками ранее у Лермонтова дано схожее выражение: между чающими движения воды, которое, возможно, является ироничной реминисценцией евангельского стиха о купальне в Иерусалиме, куда явился Христос: «Лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды» (Иоанна, 5, 3). Подобные параллели показывают символику в выборе Лермонтовым места действия романа. – А.А.
Эолова арфа – струнный инструмент, звуки которого, извлекаются порывами ветра (Эол – бог ветров); эолова арфа была устроена на крыше павильона: «звуки ее далеко разносились в воздухе, а когда была настроена, то и довольно гармоничные» .
«gris de perles» – жемчужного цвета.
«Couleur puce» – цвета блохи, т. е. темно-коричневые.
Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особому роду франтовства, солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. – «Юнкер» – это такое звание в армейских частях, которое давалось вольноопределяющемуся из дворян, не имеющему военной подготовки, оно не было офицерским, равнялось нижнему чину унтер-офицера. Поэтому надо понимать, что Грушницкий носит солдатскую шинель в соответствии со своим званием, но вкладывает в это особое франтовство. Уточним замечание С.Н. Дурылина о награде Грушницкого: нельзя назвать это высшей военной наградой в прямом смысле слова; так можно было бы определить только орден Св. Георгия 1--й степени и удостаивались его только фельдмаршалы и полные генералы (в первой половине 19 столетия так были награждены лишь пять высших военачальников: Кутузов, Барклай де Толли, Беннингсен, Паскевич и Дибич – не считая награжденных иностранцев: Карабанов П.Ф. Списки замечательных лиц русских. М., 1860) – это не сопоставимо с Грушницким, который награжден именно крестиком: здесь Лермонтов-Печорин абсолютно точен, так награждались солдаты и унтер-офицеры, и это был не собственно орден, которым могли наградить только офицера, а «знак отличия военного ордена», награжденные им были не кавалерами ордена, а «числились при ордене» – существенное различие. Так, между прочим, был награжден и толстовский юнкер Николай Ростов, позже, став офицером, получивший и Георгия 4-й степени. (См: Шепелев Л.Е. Чиновный мир России. СПБ, 2001, с. 347; Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков. М., 2001, с. 135). Но и георгиевский крестик был очень славной наградой – в соответствии с чином награжденного – и выдавался за подвиг, личную доблесть в бою.
Тем не менее, в романе указание на награду Грушницкого подчеркивает превосходство над ним Печорина: тот якобы неизмеримо выше и в военном отношении человека с почетной георгиевской наградой. – А.А.
«Трость точно у Робинзона Крузо».
Робинзон Крузо, действующее лицо знаменитой одноименной повести Даниэля Дэфо (1659-–1728), выброшенный кораблекрушением на остров, припужден был вести там жизнь дикаря.
«Прическа à la moujik» – под мужика, по-мужицки, т. е. с длинными волосами, сзади подстриженными в кружок.
«Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoutante» – дорогой мой, я ненавижу людей, чтобы не презирать их, так как иначе жизнь была бы слишком омерзительным фарсом.
«Mon cher, – отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон: – je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un melodrame trop ridicule» – дорогой мой, я презираю женщин, чтоб не любить их, так как иначе жизнь была бы слишком смешной мелодрамой.
«Я лгал, но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом...»
Это почти самопризнание самого Лермонтова. При известной встрече с Лермонтовым у Сатина в Пятигорске, в 1837 г., Белинский «начал говорить о французских энциклопедистах... На серьезные мнения Белинского Лермонтов начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками. – Да я вот что скажу о вашем Вольтере, – сказал он в заключение: – если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры. – Такая выходка совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел, молча, на Лермонтова, потом, едва кивнув головой, вышел из комнаты» . Упорная, нарочитая страсть Лермонтова к противоречиям изумляла Белинского и впоследствии «Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение» . «Сблизившись с Лермонтовым, я убедился, что изощрять свой ум в насмешках и остротах постоянно над намеченной им в обществе жертвой составляло одну из резких особенностей его характера» .
Надо отдать должное этому признанию Печорина: он сам себя называет лжецом, словно отражая древний софизм: лжец сказал, что он лжет. Лживость Печорина, его склонность к мистификации станет одной из основных тем, подробно разобранных нами в Приложении. – А.А.
13 мая.
«Неровности его черепа… поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей».
В конце XVIII – в начале XIX вв. было распространено увлечение френологией, мнимой наукой, утверждавшей, что умственные способности связаны с различными отделами мозга и что по форме и выпуклостям черепа можно судить о наклонностях человека. Лермонтов в 1841 г. писал Д.С. Бибикову: «покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галля» – френологические сочинения Лафатера: – «L'art de connaitre les hommes par la physionomie», Paris 1820, – Галля: «Anatomie et physiologie du système nérvéux en general et du cerveau en particulier», Paris 1810–1818.
Добавим и схожее место из «Княгини Лиговской»: «Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем…» (гл. 1). Ср. ранее у Марлинского уже с иронией: «Кто потерся между азиатцами, конечно, перестал верить Лафатеру» («Амалат-бек», 1831). – А.А.
«Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать».
Подчеркивая полную близость Вернера и Печорина в их общем скептицизме, Лермонтов вспоминает известный рассказ Цицерона про римских жрецов: «Очень хорошо известны слова Катона, который говорил, что он удивляется, почему не смеется гарустик, когда видит другого гарустика» .
Жрецы-гадатели (авгуры, гарустики и др.), составляя в древнем Риме политически, важную коллегию, занимались «истолкованием воли богов», не имея сами и тени веры в свои истолкования и в самих богов. Замечательно, что первоначально, вместо «по словам Цицерона», в рукописи стояло: «по словам Виргилия», римского поэта эпохи Августа (I век н. э.). Вложив в уста Печорину широко распространенное сравнение с авгурами, Лермонтов заставил себя найти указание, кому из древних принадлежит это сравнение.
«Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль».
Дуэль – поединок-бой холодным или огнестрельным оружием между двумя противниками ради восстановления оскорбленной чести одного из них – была широко распространена в дворянском классе первой половины XIX в. Правительство пыталось бороться с этим феодальным средневековым способом защиты сословно-классовой чести: законы Петра I присуждали обоих дуэлянтов к смертной казни; Екатерина II грозила им лишением прав и ссылкой в Сибирь; посредники при поединке, секунданты, рассматривались законом, как участники в убийстве. Постановления Екатерины II вошли, как действующее узаконение, в свод законов 1832 г., но на деле эти строгие законы не применялись. Правительство считалось с мнением командующего класса, видевшего в дуэли право и способ привилегированной защиты чести «благородного сословия», и самой сильной мерой наказания за дуэль употребляло – разжалование в солдаты, обычно заменяемое переводом из гвардии в армейские полки или в иные, худшие условия офицерской службы. М.Ю. Лермонтов за дуэль с Барантом был в 1840 г. присужден к лишению чинов, дворянства и разжалованию в рядовые, но сам же военный суд ходатайствовал о замене этого наказания трехмесячным арестом на гауптвахте и переводом, в том же чине, на Кавказ, в армейский полк. Николай I утвердил ходатайство суда, даже смягчив его отменой ареста. Ни царь, ни военный суд не питали к Лермонтову ни малейшего расположения, видя в нем беспокойного поэта и непослушного офицера, но смягчили наказание за дуэль автоматически, как почти всякому дворянину, считаясь с дуэлью, как с внешне не узаконенной, но прочно усвоенной привилегией дворянства. Те, сравнительно немногие дуэлянты, которые были наказываемы разжалованием в солдаты, приобретали в глазах дворянской молодежи ореол классовых героев, страдающих рыцарей чести. Солдатская шинель Грушницкого послужила для княжны Лиговской романтическим аттестатом, придающим его личности особый интригующий интерес.
Явным контрастом к Мери видится ее мать, «женщина 45 лет, у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена: на щеках красные пятна. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи. <…> Я велел обоим пить по два стакана в день кисло-серной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне», – говорит Вернер. Отметим оборот «велел обоим»: правильно было бы обеим, но Вернер дает определение в форме мужского рода, подразумевая не женщин, а больных. Лечение прописано явно пустяковое, а разводная ванна – это ванна не с естественной, а с разведенной вполовину минеральной водой.
Видимо, современники Лермонтова могли чувствовать скрытую иронию в описании лечения, которое сейчас воспринимается как что-то приятное и полезное; ср. у Е.П. Лачиновой: «Вы морщитесь и пьете тепло Отметим повтор пафосных слов о нумерованной пуговице со словами Грушницкого в этой же записи: ватую зловонную воду, которая на несколько секунд оставляет во рту вкус тухлых яиц». В «Проделках на Кавказе» более обнаженно дается оценка и собственно пребывания на водах: «Тут средоточие всех омерзительных недугов человеческого рода» и дается длинный перечень медицинских диагнозов – от золотухи до геморроя и сифилиса. Заметим, что действие романа «Продлеки…» происходит определенно в 1841 году и сам роман является нарочитой реминисценцией в отношении к лермонтовскому. – А.А.
«Я глупо создан: ничего не забываю, – ничего!»
Признание это сближает Печорина со многими героями лермонтовской поэзии. Они все не знают и не хотят забвения; все они наделены неумирающей памятью:
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.
Увы! твой страх, твои моленья,
К чему оне? Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне!
«Любовь мертвеца», 1841.
Этот же мотив проходит через все очерки поэмы «Демона», отливаясь в формулу:
Забыть? – забвенья не дал Бог,
Да он и не взял бы забвенья!
В Лермонтове «от природы преобладала эмоциональная деятельность над рефлексией. Он обладал такою же страшною «памятью сердца», как Байрон, т. е. способностью воспроизводить в сознании после многих лет испытанные когда-то «ощущения, не только с первоначальною их свежестью, но еще обособленные, усиленные и дополненные воображением» .
16 мая.
«О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар».
Имя Архимеда (III век до н. э.), одного из величайших математиков древности, упоминается и в «Княгине Лиговской»: «Но это если, это ужасное если, почти похожее на «если» Архимеда, который обещал приподнять земной шар, если ему дадут точку упора».
«Кто этот господин, у которого такой тяжелый взгляд?»
Буквальное повторение впечатления, вынесенного от взгляда Печорина офицером-рассказчиком в повести «Максим Максимыч».
«Она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой».
Первоначально было в рукописи: «для тебя скомпрометируется». Лермонтов зорко заботился о чистоте языка и тщательно избегал иноязычных примесей в романе. Другие примеры дают возможность проследить эту заботу на всем протяжении романа. «Я всегда готов рисковать» – Лермонтов поправляет Печорина: «подвергать себя смерти». «Впрочем, очень натурально, что ей стало тебя жалко» – «очень понятно». В первой записи дневника Печорина: вместо «минеральные ключи» – «целебные». В «Фаталисте», несмотря на заглавие, всюду выдержано русское обозначение понятия: «предопределение», а не «фатализм». Это сделано сознательно: в черновой рукописи, во фразе: «не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению» первоначально стояло: «фатализму».
«Я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или болезни, которую называют fièvre lente».
Fièvre lente – изнурительная лихорадка (малярия).
В связи с образом Веры и восприятием любовной интриги в романе отметим частое взаимодействие любви и ненависти в записях Печорина. Вера скажет: «Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего не дал мне, кроме страданий»; Печорин с удовлетворением замечает: «Княжна меня решительно ненавидит» (все – в записи 16 мая). Сюда же надо отнести и последние слова Мери: «Я вас ненавижу». Везде здесь толкуется о перетекании ненависти в любовь, так что Мери напоследок только подтверждает свою любовь. Эта своеобразная теория любви имеет исток в «Княгине Лиговской»: «Он знал также, что самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие». Печорин в романе развивает этот мотив поведения своего предшественника. Заметим, что в рукописи «Княгини Лиговской» цитируемое замечание принадлежит к фрагменту, написанному рукой С.А. Раевского, так что авторство теории любви-ненависти здесь может быть не только лермонтовское. Напомним вновь уже цитированные строки Лермонтова И ненавидим мы, и любим мы… З. Фрейд полагает такое переплетение любви и ненависти признаком невроза. – А.А.
«Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра... Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томит мысль, – все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес».
Лермонтов был отличный наездник и страстный любитель быстрой верховой езды. «Однажды Лермонтову пришлось кинжалом отбиваться от трех горцев, преследовавших его около озера между Пятигорском и Георгиевским укреплением. Благодаря превосходству своего коня поэт ускакал от них. Только один его нагонял, но до кровопролития не дошло. Михаилу Юрьевичу доставляло удовольствие скакать с врагами наперегонки, увертываться от них, избегать перерезывающих ему путь». Один из сослуживцев Лермонтова рассказывает: «Гарцовал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщевую шапку, бросался на чеченские завалы» .
Быстрая езда, как средство развеять душевную боль и тревогу, – частый мотив у Лермонтова:
Я мчался на лихом коне
В пространстве голубых долин,
Как ветер волен и один.
Туманный месяц и меня,
И гриву, и хребет коня
Сребристым блеском осыпал.
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, ударивши ногой,
Отбрасываем был землей.
И я в чудесном забытьи
Движенья сковывал свои
И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускорить
И долго так мой конь летел...
(«Люблю я цепи синих гор», 1830)
С этим отрывком следует сопоставить скачку Измаила-бея после первого совершенного им убийства (часть 1--я, строфа XVI). В дикой скачке человек обретает высокое ощущение вольности. «Узник» просит:
Отворите мне темницу
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня!
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне .
(1832.)
В строфах CXLV–CXLVI не предназначавшейся для печати поэмы «Сашка» (1836–1839) Лермонтов рисует образ вольного «любимца природы»:
Блажен, кто посреди нагих степей
Меж дикими воспитан табунами;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как над нами
Златые облака, от ранних дней
Носиться...
Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых...
Этому счастливому жребию, изображенному по Руссо («l'homme de la nature») и по Байрону, Лермонтов противополагает скучную и жалкую участь современного «лишнего человека» из образованного общества.
Признание Печорина, что общение с природой победительно рассеивает его горечь и мыслительное беспокойство, есть повторение признания самого Лермонтова: «Для меня горный воздух – бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит; ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь» .
Добавим, что фрагмент перекликается с ранним стихом Лермонтова: О, когда б я мог // Забыть, что незабвенно, – женский взор! // Причину стольких слез, безумств, тревог!. По сравнению со стихотворением «1831-го июня 11 дня» женский взор теперь забывается на фоне природы. – А.А.
«Я думаю, казаки, зевающие на вышках, видя меня, скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса».
Сторожевые деревянные вышки устраивались на кавказской линии для постоянного наблюдения за черкесами. Подле вышки находился высокий столб с прикрепленной к нему ни жерди соломой или паклей. Заметив черкесов, казак, дежуривший на вышке, зажигал солому, сигнализируя опасность, и казаки, дожидавшиеся с оседланными конями подле вышки скакали по линии с вестью о появлении неприятеля.
«И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный дэнди; ни одного галуна лишнего...»
Нося черкесскую одежду (бешмет – полукафтанье, поверх которого надевалась суконная черкеска с патронами на груди; ноговицы – кусок сукна или тонкой кожи, охватывающий голень и застегивающийся сбоку), Печорин подчеркивает, что носит ее так же, как носил гвардейский мундир в Петербурге: с аристократической изысканной простотой, как дэнди, законодатель моды, одевающийся с безукоризненным вкусом. «Хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего» («Княгиня Лиговская») .
В комментарии В.А. Мануйлова приводится следующее подробное описание: «...нет ничего живописнее казака или горца (так как отличить одного от другого незнающему трудно) на своем лихом коне. Костюм его – белая или желтая черкеска из верблюжьего сукна, род широкого, свободного полукафтанья, без воротника, открытый на груди; из-под черкески виднеется щегольский бешмет из канауса или какой-нибудь шелковой материи, по краям обшитый галунами, с низким стоячим воротничком. На груди по обе стороны черкесские сафьянные патроны, также обшитые галунами; кожаный, довольно высокий пояс, всегда с серебряной насечкой, стягивает стан тонкий и эластичный. Нога обута в щегольский сафьянный чувяк, также обшитый галуном. Поверх чувяков на панталоны надеты суконные ноговицы, идущие снизу несколько выше колен, расшитые узорчато галунами. На голове папаха, круглая, обшитая мехом шапка. За спиной винтовка в чехле из войлока. За поясом огромный кинжал, большею частью с серебряной насечкой. В кобуре с правой стороны большой азиатский пистолет, а за поясом другой. Тонкая нагайка надета на кисть правой руки... Мчится он, обыкновенно пригнувшись к шее лошади, на которой сидит так же свободно и покойно, как бы сидел на мягком диване» (Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882. С. 374–375). Само же стремление подражать кавказцам может быть описано и сатирически, как в романе Е. Лачиновой, где Николаша (отражение Печорина) ведет себя именно так, впервые попав на Кавказ: «Выбрил голову и надел жидовскую феску: это необходимо для пятигорского fashionable; в таком виде он походил как две капли воды на умалишенного, воображавшего себя испанским инфантом» (далее развивается, очевидно, не случайно мотив из «Записок сумасшедшего» Н.В. Гоголя). – А.А.
«Я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит en pique nique (на пикник)... Кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы»
«По дороге от Пятигорска к Железноводску красиво разбросалась и существует давно уже колония шотландцев, от чего называется Шотландкою; чистые, на немецкий манер домики имеют садики и огороды, и вся постройка тонет в зелени садов. Зажиточные колонисты часто отдают свои домики под пикники, устраиваемые наезжающими сюда семействами из Пятигорска. Подобных роз-центифолий, какие я рвал в Шотландке, мне не случалось видеть нигде... Жители живут в довольстве и покое, но лет десять тому назад подвергались набегам горцев» .
«Змеиная – одна из гор на степи в окрестностях Пятигорска; подошвою своею соединяется с Железною горою. Змеиная гора скалиста, имеет крупные скаты и издали похожа на группу змей. Железная гора (по-татарски: Жлантау, по-черкесски Бле-ошга, состоит из известкового и глинистого сланца и покрыта густым лесом, в котором собственно и находятся минеральные источники. Лысая гора: к с.-в. от Пятигорска, на правом берегу верховьев р. Подкумка, состоит из известняка» .
«Кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским»
– переделка стиха из «Горе от ума»: «Французского с нижегородским».
Ирония: возможно, здесь подразумевается Нижегородский драгунский полк, в котором на Кавказе служил и Лермонтов в 1837 году.
Печорин – знаток литературы, привлекает «Горе от ума» А.С. Грибоедова еще трижды: кроме приведенного случая еще полная, но неточная цитата в записи 10 (18) июня: «Но смешивать два эти ремесла…» и скрытая цитата в реплике «Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет кареты. Но карета готова… прощайте!» (16 (27) июня; ср. Чацкий при разъезде гостей). Наконец, можно видеть реминисценцию в репликах: «– Стало быть, уж ты меня не любишь!.. – Я замужем!»: так же Чацкого в его игривом обращении одергивает Наталья Дмитриевна (д. 3, явл. 5). – А.А.
«Mon Dieu! un circassien» – Боже! черкес! «Ne craignez rien, madame, – je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier» – не бойтесь ничего, сударыня, я не опаснее вашего спутника.
«Поздно вечером, т. е. часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара».
Описание ночи в Пятигорске может служить образцом письма Лермонтова последних лет. Несколько строк – и перед нами полная, всеобъемлющая картина ночи. Словам в ней тесно, но живописи и музыке просторно. Первая половина описания построена на зрительных впечатлениях вечера: «в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отросли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы». На смену зрительным выступают слуховые впечатления: шум ключей, топот коня, скрип арбы, припев песни. С проникновенным реализмом и вместе с тончайшим лиризмом подмечает Лермонтов эту смену впечатлений и из нее создает картину и вместе симфонию ночи, опираясь на прекрасную ясность малейшей черты, на мелодичную точность любого звука. Это проза поэта, умеющего кристаллизовать чувство, мысль, образ в емкое, прозрачное, как кристалл, слово, звучащее как мелодия; но это и проза глубокого реалиста, тонкого психолога, безошибочного наблюдателя людей и вещей. Этот отрывок, взятый отдельно, есть проникновенное изображение теплой южной ночи, но он же в ряду страниц психологического романа дает тонкую зарисовку субъективных переживаний Печорина, без которых был бы не полон его образ.
«Самый приятый дом для меня теперь мой», – сказал я, зевая...
Ср. письмо Лермонтова к М.А. Лопухиной : «Назвать вам всех, у кого я бываю? Я – та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием».
29 мая.
«Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания».
Вот какое описание пятигорской ресторации читаем в «Московском Телеграфе» :
«Здешняя ресторация служит очень приятным местом общего сборища. В ней можно хорошо и недорого пообедать; охотники до виста или бостона всегда найдут там себе партию. Комнаты ресторации убраны хорошо, зала ее обширна и очень удобна для танцев, которые в ней иногда и бывают. Словом: больные, выдержавшие карантин на горячих водах в Кисловодске, начинают оживать и опять знакомиться понемногу с удовольствиями света. Однакож на бале, который здесь был при мне, как-то все еще плохо клеилось, и в танцы пускались очень немногие. Зато игорные столы все были заняты. Видно, что господа выздоравливающие не совсем еще освободились от лени, которую нагоняют теплые ванны и серные пары, или, может быть, иные из них вздумали позаботиться также и о поправлении здоровья кошельков своих, которое от долгого пребывания на Кавказе весьма легко может расстроиться».
«Благородное собрание» – клуб «благородного», т. е. дворянского сословия, существовавший до революции 1917 г. в каждом губернском городе. В зимнее время в «благородных собраниях» устраивались балы, на которых «вывозили» девушек-невест: так, «в Москву, на ярмарку невест» везут пушкинскую Татьяну, «ее привозят и в Собранье» и там встречает она «генерала», будущего своего мужа. Вход в «благородное собрание» был доступен только дворянам. Бал, описываемый в данной записи, – дворянский бал, устраиваемый «по подписке» офицерскою молодежью. В альбоме кн. Н.С. Вяземского, товарища Лермонтова и по школе гвардейских подпрапорщиков, и по службе на Кавказе, сохранился лист: «Подписка на бал, даваемый 13 числа августа [1838 г.] в субботу в Кисловодске». В подписной складчине на бал участвуют Лев С. Пушкин, брат поэта, кн. А.А. Суворов, кн. Голицын (вероятно Вл. С., знакомец Лермонтова), кн. Гагарин и другие представители офицерской аристократии. Тот же Вяземский, организатор подписки, сохранил отчет в израсходованной на бал сумме. Освещение стоило – 207 руб. 75 коп.: «За 500 плошек -– 110 (рублей). За освещение залы и столовой – 93 р. 75 к.; 10 фунтов свеч сальных – 4 руб.». Бал затянулся: «прибавлено на окны 15 фу (нтов) свечей – 37 р. 50 к.; переменены люстры и на окны – 30 фу (нтов) – 75 р.; на фонари выдано 4 фу (нта) – 10 р.». Далее идут крупные расходы: «70 персон ужин 700 рублей; угощение чаем, мороженым и фруктами – 190» и более скромные: «прислуги 15 человек – 84; за залу – 56». На балу было выпито вина 61 бутылка (шампанское разных марок, ренвейн, сотерн, мадера, малага, мозельвейн и т. д.) на 442 рубля. Прибавив к этим расходам небольшие: «садовнику дано – 21, за дрожки в Пятигорск – 6 р.» и какой-то «особо поданный счет» в 89 р. 30 к., получаем общую сумму расходов – 1919 р. 05 коп. серебром. Вот в какую крупную, особенно для кавказского захолустья, сумму, равную годовому оброку с нескольких деревень, обходился подписной бал на водах, превращавший убогую «ресторацию» в пышное «благородное собрание» .
«Пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи – счастливую эпоху мушек из черной тафты».
Все зарисовки Печориным «водяного общества» ироничны, но в то время, как, рисуя княгиню Лиговскую, мужа Веры, людей столичного круга, Печорин ограничивается сдержанной иронией, представителей дворянского захолустья – «толстую даму», «драгунского капитана» и др., он рисует с явным сатирическим нажимом карандаша. В зарисовке «толстой дамы» нажим сделан на старомодность: у нее лицо, словно у жеманницы XVIII в., в «мушках» – искусственных родинках из тафты, наклеивавшихся на щеки, платье ее похоже на «фижмы» – пышнейшую юбку на широком каркасе из китовых усов, модную при Екатерине II; даже фермуару, золотой скрепе ожерелья, придано сатирическое значение – маски для бородавки.
«C'est unpayable» – это презабавно!
«Merci, monsieur» – благодарю вас.
«Ангажировать pour mazur» – приглашать на мазурку.
11 июня.
«А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но проявилось в другой виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает, возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость...»
В самопризнаниях Печорина, включенных им в эту запись его «Журнала», центральное место принадлежит признанию в «жажде власти»: «подчинять моей воле все, что меня окружает» – вот в чем «первое удовольствие» Печорина (см. об этом в очерке «Печорин»).
Сопоставляя Онегина с Печориным, В.Г. Белинский (статья 1840 г.) утверждал, что они близнецы по социальному происхождению и общественному положению, но резко различны между собой тем, что Онегин – не деятелен, а Печорин – весь порыв к действию: «Онегин для нас уже прошедшее, и прошедшее невозвратное.
Если бы он явился в наше время, вы имели бы право спросить вместе с поэтом:
Все тот же он, иль усмирился?
Иль корчит также чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? – Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
Печорин Лермонтова есть лучший ответ на все эти вопросы. Это Онегин нашего времени, герой нашего времени. Несходство их между собой гораздо меньше расстояния между Онегой и Печорой. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и невидимая самим поэтом...
Что такое Онегин? – Он является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому все пригляделось, все приелось, все прилюбилось и которого вся жизнь состояла в том,
что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.
Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду. Трагедия Печорина в том, что его погоня «за жизнью» в тесных пределах его времени и среды оказывается безрезультатной».
Комментаторы часто излишне серьезно воспринимают величественные реплики Печорина в его дневнике, вроде записи возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха. Прежде всего, здесь необходимо учитывать, что подобные слова весьма скромно упрятаны в дневник и в общем-то мало подтверждены их автором. История с Бэлой служит скорее диссонансом к подобным заявлениям: «сильный, волевой человек» (по оценке В.А. Мануйлова) – сподобился украсть 16-летнюю девушку-подростка, запереть и разными обманами склонить к близости… Печорин вообще часто удовлетворяет свое властолюбие, побеждая почти подростков: Мери, 14-летний слепец, 15-летний Азамат, дочка урядника из «Фаталиста»…
Думается, сам Лермонтов мог бы избрать какие угодно, более весомые доказательства силы и воли Печорина, если бы это входило в авторскую концепцию. Кроме того, сильные реплики Печорина удивительно похожи на слова известного комедийного героя, что воспринимается как выражение авторской оценки. Этот близкий Печорину герой – Иван Александрович Хлестаков. Вот и фраза Печорина в данной записи отражает хлестаковскую: «Я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность». Нечто подобное и в характеристиках Печорина другими героями его дневника. Вот слова Веры: «В твоем голосе есть власть непобедимая <…> ничей взор не обещает столько блаженства». А вот Хлестаков: «В моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость, ни одна женщина не может их выдержать». Вера: «Ты можешь всё, что захочешь». Городничий о Хлестакове: «Может всё сделать, всё, всё, всё!». См. также Приложение. – А.А.
«Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного».
Ср. признание декабриста Лорера, произведенного из рядовых в офицеры: «В Керчи я сшил себе сюртук Тенгинского пехотного полка и когда посмотрелся в зеркало, то нашел себя очень смешным. Солдатская шинель мне как-то была более к лицу» . Грушницкий радуется офицерскому мундиру и эполетам , потому что он вводит его как равноправного в дворянское общество, – в частности, в «благородное собрание», на балы, куда как рядовой он не имел доступа.
«Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко-тронутый вид: «Да, такова моя участь с самого детства!..»
Лермонтов – словами «приняв глубоко-тронутый вид» – дает намек на некоторую нарочитость, намеренность последующего признания Печорина, высказанного с расчетом произвести определенное действие на княжну. Примечательно, что этот монолог, в значительной части, поэт взял из драмы «Два брата» (1836). Там (действие 2--е, сцена I) его произносит Александр Радин в сходном драматическом положении: он хочет вызвать в любимой женщине, Вере, вышедшей за князя Лиговского, чувство вины перед ним и новую любовь к нему. «Да, такова моя участь со дня рождения. Все читали на моем лице какие-то признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, – и они родились. Я был скромен, меня бранили за лукавство, я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли, – я стал злопамятен. Я был угрюм, брат – весел и открытен, я чувствовал себя выше его, – меня ставили ниже, я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, меня никто не любил, и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с судьбой и светом; лучшие чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубину сердца, они там и умерли; я стал честолюбив, служил долго, – меня обходили; я пустился в большой свет, сделался искусен в науке жизни, – а видел, как другие без искусства счастливы. В груди моей возникло отчаяние, не то, которое лечат дулом пистолета, но то отчаяние, которому нет лекарства ни в здешней, ни в будущей жизни».
«Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала...»
«От души ли говорил это Печорин или притворялся – трудно решить определенно: кажется, что тут было и то, и другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним миром и с самим собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма их бытия, и, что бы ни попалось им на глаза, все служит им содержанием для этой формы. Мало того, что они хорошо помнят свои истинные страдания, – они еще неистощимы в выдумывании небывалых. Такие люди неистощимы в самообвинении: оно обращается ими в привычку. Обманывая других, они прежде всего обманывают себя. Истинная или ложная причина их жалоб – им все равно, и желчная горесть их равно искренна и непритворна» .
Нарочитость признаний Печорина выражается, главным образом, в сгущенности общего тона рассказа, в некоторой гиперболизации своих внутренних бедствий. По существу же, все заявления Печорина, сделанные княжне, сходны с теми, что вписаны в его дневник без всяких сторонних целей и без всякого расчета на чье-либо внимание.
13 июня.
«Где нам дуракам чай пить!» отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным»...
Лермонтов усиливает аристократический «дэндизм» Печорина одной деталью: он заставляет его вспоминать «любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным». «Повеса» этот, вероятнее всего, Петр Павлович Каверин (1794–1855), в 1810–1811 гг. геттингенский студент, в 1812 г. – ополченец, а с 1816 г. – офицер лейб-гвардии гусарского полка, того самого, в котором в 1834–1837 гг. служил сам Лермонтов. Лицеист Пушкин, общаясь с лейб-гусарами, близко сошелся с остроумным, блестящим Кавериным, и подражал этому законодателю моды и веселья в проказах и удальстве: в стихотворении «Я сам в себе уверен» Пушкин прямо назвал себя «маленьким Кавериным», сблизившись с ним впрочем не только хмелем «гусарских вольностей», но и общностью литературных и умственных интересов. Пушкин неоднократно воспевал повесу Каверина («К портрету П.П. Каверина», «К П.П. Каверину», «Веселый вечер в жизни нашей»), а в 1-й главе «Евгения Онегина» сделал его приятелем и однокашником своего «дэнди». Каверин был действующим лицом множества гусарских преданий, конечно, хорошо известных его однополчанину Лермонтову, в середине 1830-х годов искавшему той же славы гвардейского дэнди и веселого остроумца, которую признавал за Кавериным сам Пушкин. Остроты и меткие слова Каверина долго повторялись в петербургских гвардейских кругах .
Печорина Лермонтов делает своим человеком в этом кругу богатой гвардейской молодежи, к которому ранее принадлежали сверстники Онегина: Чаадаев, Катенин и др.
Уточним: каверинская поговорка звучала так: «Где нам, дуракам, чай пить со сливками» (Ю.Н. Щербачев. Приятели Пушкина… М., 1912). – А.А.
«Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов...»
Печорин иронически сравнивает себя с сочинителями так называемых «мещанских драм» (очень популярных со средины XVIII в.), в которых сентиментально изображенное благополучие буржуазной семьи нарушается обычно каким-нибудь «злодеем» из аристократической среды. Как образец пошлого жребия житейского, представляется Печорину – быть безвестным «сотрудником» какому-нибудь «поставщику повестей в «Библиотеку для чтения» (с 1834 г.), в ежемесячный журнал, широко распространенный в среде среднепоместного дворянства и провинциального чиновничества и наполнявшийся повестями, рассчитанными на неприхотливый вкус этих малокультурных читателей. Так как главным «поставщиком» таких повестей был сам редактор журнала О.И. Сенковский, писавший под псевдонимом барона Брамбеуса (см. главу о «Предисловии к роману»), то Печорин иронизировал над собой, как над поденщиком этого плодовитого писателя, к которому Лермонтов относился отрицательно.
Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. – Реплика вновь показывает, насколько активно восприятие Печориным Библии, т.е. христианства; скорее всего, разочарование в христианстве следует воспринимать как один из первых шагов в формировании его характера. В Евангелии от Матфея говорится так: «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». // А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (5, 43–44). Печорин, словно предтеча ницшеанства, отвергает ключевые заповеди Христа. – А.А.
«Зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, без пищи гаснет».
Эта реплика в записи 6 июня передает тягость любовного томления Печорина. Возможно, Вера не с той легкостью идет на очередную измену мужу, как это предполагает Печорин: «Она его уважает как отца – и будет обманывать как мужа». Тактика Печорина приведет к любовной близости с Верой лишь в ночь, когда всех отвлекает Апфельбаум,15 (здесь – 26) июня. Эта ночь приведет к дуэли, гибели Грушницкого и нравственной гибели Мери, а также расколу в новой семье Веры. Вот что окажется следствием домогательств Печорина.
В.А. Мануйлов, касаясь этого фрагмента, вновь сетует, что в старой датировке дневника (т.е. не выправленной Эйхенбаумом, а соответствующей прижизненным изданиям) дата этой записи была иная: не 6, как теперь, а 14 июня.
Пусть так, но не здесь ли и внутреннее объяснение, почему могло понадобиться еще растягивать сюжет почти на 10 дней? Это усиливает скрытый комизм положения Печорина: его томления по Вере длятся уже месяц, если дата 14-е, ведь увидел он ее 16 мая! С добавлением еще 10 дней эффект становится совершенно наглядным: добьется своего он только 26 июня: вот какова Вера в ее любовной тактике. Ср.: «Наконец-таки вышло по-моему»,будет стонать Печорин. И, может быть, это единственное объяснение, почему события следовало растянуть во времени, причем растянуть умеренно: слишком большой срок, несколько месяцев, превращал бы весь сюжет в откровенную сатиру. (Скоротечность событий здесь настолько ни к чему, что даже В.А. Мануйлов, неожиданно противореча сам себе, вдруг заметит: «Все события укладываются в срок, немногим больший, чем полтора месяца» (с. 43). Это что – подтверждение «старой» хронологии?..)
От переутомления Вера и показалась ему «дороже всего на свете – дороже жизни, чести, счастья». Этот любовный сюжет можно сравнить с томлением Печорина по Бэле, тоже поначалу приведшему к близости, а затем к трагедии. – А.А.
18 июня.
«Вот уже три дня, как я в Кисловодске»...
Кисловодск, во времена Лермонтова, – укрепление и казачья станица, в 35 верстах от Пятигорска, при pp. Березовке и Ольховке, которые своим слиянием образуют р. Эль-Куму, впадающую в Подкумок. «В конце июля большая часть посетителей (Пятигорска) перебралась в Кисловодск; там чудная местность, воздух живительный. Кисловодское ущелье представляет одну из прелестнейших картин: возвышенности тенистые, ручей с шумом падает с плиты на плиту, соединяется с другими ручьями и втекает в Подкумок, прорезывающий широкую долину; на берегу ручья на холме – ресторации и несколько красивых домиков. Свежесть трав так необыкновенна от влаги и от тени! Далее в стороне от ущелья тянется в одну линию слобода, где всякая конурка, всяким чердак заняты посетителями. Но главная приманка в Kисловодске – славный источник Нарзан, по-черкесски Богатырская вода. Ключ кипит в полном смысле слова; выбивает белую пену, клубится, поднимает воду на полсажени глубиною. Вода эта живит, подкрепляет, возбуждает аппетит, пьют ее по шестнадцати стаканов в день, не ощущая никакого отягощения в желудке: охотники пили ее с кахетинским или с донским вином. Кто пил нарзан несколько недель сряду, тому трудно расставаться с ним» . Живительным красотам Кисловодска посвящено стихотворение Д.П. Ознобишина «Кавказское утро», написанное в Кисловодске в 1839 г.
«Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников – я не из их числа» –
реплика (не совсем точная. – А.А.) Чацкого из «Горя от ума» А.С. Грибоедова.
«Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет» –
два стиха из посвящения П.А. Плетневу «Евгения Онегина».
«Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме».
В XIII песне знаменитой поэмы Торквато Тассо (1544–1594) «Освобожденный Иерусалим» рассказывается, как герой поэмы, рыцарь Танкред, вступил в очарованный, лес:
Спокойно встретил он грозящий леса вид:
Рев грома, трус земли героя не страшит.
Течет... уже вступил под мрачный теней свод.
И се вдруг пламенный возник пред ним оплот,
Остановился он...
Несмотря на разливающуюся перед ним огненную преграду, Танкред смело идет вперед:
...Вступивший в глубь пожара,
Не чувствует герой ни пламени, ни жара;
Не разгорелася сребристая броня;
Не знает: огнь сие, иль признак лишь огня
Грозил его очам; и как решить? – В мгновенье
При первом шаге, все исчезнуло виденье; –
Простерлась ночь кругом – настал ужасный мрак;
И мраз, и ночи мгла исчезли в тот же час. –
Нет более чудес, явлений чрезвычайных,
Не видит ничего, ничто, не держит стоп,
Кроме сгущенных древ и преплетенных троп. –
Достигнул наконец пространнейшего луга,
Который, возносясь, образовал полкруга.
И ската посреде, как пирамиды вид,
Надменный кипарис, уединен, стоит .
24 июня.
«Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира...»
Вампир – или упырь – сказочный оборотень, тайно высасывающий из людей кровь. Печорин вспоминает под именем «Вампира» мрачного героя одноименной анонимной английской повести (1819), переведенной на разные языки (в том числе по-русски) и широко читавшейся в первой четверти XIX в. из-за своей фабулы, изобилующей таинственностью в судьбах героя, обилием ужасов и приключений. Издатель приписал повесть Байрону; как произведение этого «властителя дум», воспринимал повесть и европейский читатель, в том числе, вероятно, и Лермонтов. Байрон отрекся от повести, автором которой он не был, но которая все-таки исходила от него: «Вампир» есть запись изустного рассказа Байрона, сделанная в Швейцарии его спутником по путешествию, доктором Полидори.
«Огни начинали гасить в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались».
Кисловодск во времена Лермонтова был укреплением, входившим в состав Кавказской военной линии. Пикеты – передовые караульные посты.
«В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и клики, изобличавшие военную пирушку».
Для военной молодежи, особенно из зажиточных дворянских семейств «минеральные воды» служили местом разгула. Как велико было там потребление не только «кахетинского», т.е. местного кавказского, но и других иностранных вин, видно из «Щота», поданного товарищу Лермонтова Н.С. Вяземскому в 1838 г. кисловодским «купцом Нойтаки»: 27 июля князю было отпущено 4 бутылки «ренвейну», 1 – «виндерграфу», 2 – «шампанскова» и 2 фунта восковых свечей, всего на 68 руб.; 28 числа – 5 бутылок «виндерграфу» и 1 – «ренвейну», на 23 рубля; 29-го – 1 фунт «шыколаду» за 4 р.; 30-го – 1 бутылка «виндерграфу» – 3 рубля. 1 августа – 5 фунтов восковых свечей, 3 ящика «пахитос», бутылка шампанского «креман» и 1 бутылка рому, всего на 75 р. 50 к.; 4-го отпущено – 3 бутылки того же шампанского за 54 р., 2 фунта восковых свечей за 5 р. и т. д. Усиленное потребление восковых свечей выдает, что попойки у Вяземского (за 8 дней на вино, лакомства и свечи истрачено 232 р. 50 к.) сопровождались картежной игрой по ночам .
«Господа! сказал он, это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слетки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил на свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги».
Слова драгунского капитана, сочувственно встреченные остальной компанией, изобличают глубокую неприязнь кавказского боевого армейского офицерства к привилегированным гвардейцам, попадавшим на Кавказ в специальные военные командировки. В «Воспоминаниях о службе на Кавказе в начале 1840-х годов» М.А. Ливенцова читаем такие жалобы боевого офицера навагинского полка: «Скоро понаедут к нам целые легионы «гвардионцев»... человек 60 прискачут наверно, пронесутся по дорогам лихие курьерские тройки с бубенцами и колокольцами, «со звонами малиновыми» и с «пустозвонами прекрасными», шестьдесят наград отнимутся у наших многотерпцев-строевиков для украшения этих «украсителей» модных салонов! Чудеса, право! Посылают их, видите ли, с тою полезною целью, чтобы ознакомить «будущих крупных деятелей» со всеми особенностями кавказской войны, ну, и расползутся эти «украсители» по штабам да в ординарцы к генералам. Какая же в них польза, и с чем они ознакомятся? А послушали бы вы, что станут они рассказывавать в Петербурге про наши дела не только барыням и барышням, а и важным чиновным старцам, – просто потеха. Оттого, вероятно, в России государственные деятели менее знают о Кавказе, чем каждый привратник в Париже – об Алжире» .
Другой боевой офицер в тех же «воспоминаниях», старый майор типа Максима Максимыча, отмечает другую вредную сторону влияния гвардейцев на кавказское массовое служилое офицерство: «С уходом «бонжуров» уменьшились у нас картеж и пьянство, прежде денежки этих господчиков ходили в обращении, а затем настало безденежье, жизнь в обрез, на маркитанскую книжку. А и право же лучше так: играют в банчишко или преферанс по маленькой, зато шуллеришек не разводится. Покучиваем мы уже не из хлопушек шампанских и портерных, а кизлярка, чихирь да очищенное отдуваются, а то и спирт разведенный хлебаем: дешево и сердито! По-прежнему-то бывало: подавай нам Клико да Эль-кок, портер, ликеры; цымлянским и пивом брезгали, чехирем – ноги мыли, – вот как важно!» .
При оценке отношений Грушницкого, драгунского капитана и всей компании к Печорину необходимо учитывать общую неприязненность кавказских армейцев, на которых лежала вся тяжесть долголетней и трудной войны, к гвардейским «слеткам»-гастролерам, к числу которых они ошибочно причисляют и Печорина.
Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. – Это отнюдь не оригинальная выдумка драгунского капитана, такие розыгрыши действительно практиковались и даже нашли отражения в художественной литературе: см. сатирический роман 18-го века «Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины» М.Д. Чулкова (1770). Вариация этого замысла есть в словах Грушницкого из романа Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кавказе»: там пародийный герой предлагает дуэль, где будет заряжен только один пистолет, – уже как условие смертельного поединка, а не обман. См. отрывок в Приложении. – А.А.
25 июня.
«Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune; но над мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться – прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего...»
Размышления Печорина, почему он не может предложить княжне «son coeur et sa fortune» (свое сердце и судьбy), являются параллелью к отповеди Онегина Татьяне (строфы XXIV–XXV главы 4-й). Еще ближе заявление Печорина: «я готов на все жертвы... но свободы моей не продам» – к позднему признанию Онегина (гл. 8--я, Письмо к Татьяне):
Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел;
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Об отказе Печорина от любви Мери Добролюбов писал: «Каждый из обломовцев встречал женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова и даже княжна Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бежал от ее любви или добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не давлением на них гнусной обломовщины?»
«Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне смерть, от злой жены; это меня тогда глубоко поразило»…
В этом признании Печорина слышится отзвук одной автобиографической записи Лермонтова: «Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет два раза женат. Про меня на Кавказе предсказала то же самое старуха моей бабушке. Дай Бог, чтобы и надо мной сбылось, хотя бы был так же несчастлив, как Байрон» .
(Пророчество в отношении Печорина не сбылось, в отношении Лермонтова – отчасти. – А.А.)
26 июня.
«Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку».
Образец работы Лермонтова над сжатой ясностью изложения. Мы не знаем, кто схватил руку Печорина, но знаем, что это была женщина; а читая черновую рукопись, мы могли думать, что руку Печорина схватил мужчина: «жаркая рука схватила мою руку».
15 или 26 июня, в ночи, состоялось роковое свидание Печорина с Верой. Это событие описано параллельно выступлению фокусника Апфельбаума, что, наверное, носит продуманный, пародийный характер.
В комментарии В.А. Мануйлова собран интересный материал о реальном фокуснике с такой фамилией. Это не вымышленная, а реальная и достаточно известная личность. Есть предположение, что Апфельбаум гастролировал на водах летом 1837 года. Если это так, то такое указание разрушает хронологию романа, поскольку внутреннее развитие действия никак не позволяет отнести события «Княжны Мери» к 1837 году. Или это надо посчитать авторской ошибкой, смещением, или выдумкой Печорина, который, так сказать, напророчил приезд Апфельбаума в Кисловодск в будущем – позднее действия романа. Впрочем, с полной определенностью невозможно пока установить, был ли и когда был этот фокусник на Кавказе.
С другой стороны, его концерт больше соответствует не выправленной Эйхенбаумом дате, поскольку 25-е июня, празднование дня рождения императора Николая Павловича, особо ждали на водах: к этому дню приурочивали торжества и последующие увеселения. Датировка же 15 июня не несет никакой смысловой нагрузки. – А.А.
«Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось, стали искать черкесов...»
В «Записках декабриста» А.Е. Розена читаем: «Теперь (1838) редко случается, в три или четыре года раз, что несколько отважных черкесов делают набег на Пятигорск, на Кисловодск и окрестности их. Отчаянные головорезы, как коршуны, спускаются на предместье и при первой тревоге, часто без всякой добычи, ускакивают восвояси» .
27 июня.
«Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:
– Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.
Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.
– Прошу вас, – продолжал я тем же тоном; – прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью».
Вызов Печориным Грушницкого на поединок был строгой неизбежностью с точки зрения дворянских понятий о чести, так как Грушницкий, в присутствии нескольких лиц, честным словом заверил, что видел, как Печорин поздней ночью вышел из комнаты княжны («Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь: московские барышни! После этого чему же можно верить?»). Оставленное без ответа со стороны Печорина заявление Грушницкого лишало бы княжну Мери чести в глазах общества; ответом же Печорина, при отказе Грушницкого взять назад свои слова, мог быть только вызов на дуэль. Случайно присутствовавший при объяснении пожилой муж Веры, стоя на точке зрения морали своего класса, горячо одобрил поступок Печорина: «Благородный молодой человек!» – сказал он со слезами на глазах».
Странно, однако исследователи романа оказываются настолько зачарованными Печориным, что не замечают в этом эпизоде важнейшую деталь – слова Печорина в ответ на реплику драгунского капитана о том, что он подтверждает правоту Грушницкого, ведь в ту ночь был с ним вместе. Печорин на это отвечает – тоже подтверждением: «А! так это вас ударил я так неловко по голове?» Так оно и было на самом деле, но ведь Печорин не поясняет, что выбирался от Веры Г., а не от Мери Лиговской! Стало быть, его противники получили подтверждение в своей правоте, а главное – в своей оценке княжны, которую, очевидно, постараются общеизвестной. Так что благородный Печорин здесь сам клевещет на Мери самым изощренным способом: даже со смертью Грушницкого, никто теперь не будет сомневаться, что Печорин обольстил Мери, или она соблазнила его, или оказалась так скандально доступна… Словом, репутация княжны навеки будет опорочена – Печориным! – А.А.
«Он (доктор Вернер, секундант Печорина) должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что, хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире».
Печорин был выслан на Кавказ за дуэль; участие в новой дуэли грозило ему лишением дворянства и разжалованием в солдаты.
Условия шуточной дуэли, замышлявшейся компанией Грушницкого для посмеяния Печорина, остались приняты и для дуэли в ответ на вызов, сделанный Печориным: на них настаивал Грушницкий, которому, как вызванному, принадлежало первое слово в вопросе об условиях дуэли. Условия эти крайне серьезны: даже смертельная дуэль Пушкина, как и дуэль Лермонтова с Мартыновым, происходила не на шести, а на десяти шагах. При согласии Грушницкого на то, чтоб только его пистолет был заряжен пулей, подобная «дуэль» была прямой организацией убийства Печорина.
«Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту».
Дневник Печорина прерван его арестом (? – А.А.), последовавшим после дуэли и смерти Грушницкого. Конец истории он описывает, уже находясь в ссылке в той глухой крепости N, в которой мы встретили его в повести «Бэла».
Перед дуэлью Лермонтов заставил Печорина забыться за чтением «Пуритан» – популярного романа Вальтер Скотта (1771–1832), писателя, которого сам Лермонтов, по собственным его словам, «не любил; в нем мало поэзии. Он сух» .
«Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я ему... – Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть».
Ср. юношеское признание самого Лермонтова: «Умереть с пулей в груди нисколько не хуже, чем умереть от медленной агонии старости. Итак, если начнется война, клянусь вам Богом, что всегда буду впереди» .
«Я не помню утра более голубого и свежего»
Лермонтов оставляет Печорина верным до конца своей любви к природе. Ее власть над ним так же велика, как над черкесом Измаилом-беем:
Забыл он все, что испытал:
Друзей, врагов, тоску изгнанья;
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал.
«Берегитесь! – закричал я ему: – не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря».
В числе многих легендарных предзнаменований, будто остерегавших Гая Юлия Цезаря (100–44 гг. до н.э.) от присутствия на заседании сената, в котором он был убит заговорщиками, называют и то, что Цезарь оступился на пороге по пути в курию Помпея.
«Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами».
Переводчик и знакомый Лермонтова, Фридрих Боденштедт, пишет в своих воспоминаниях: «В конце романа описывается дуэль, в которой тот, кому первому предстоит подвергнуться выстрелу противника, должен стать на краю обрыва, чтобы в случае раны немедленно упасть туда на верную смерть: по странному сближению, почти точно таким же образом умер впоследствии сам Лермонтов. Это поразительное сходство положений объясняется тем, что Лермонтов был по убеждению отъявленным врагом дуэли но, единожды доведенный до нее, не мог уже сделать из нее детской шутки или рисковать подвергнуться одному увечью. Поэтому он и принял такие меры, чтобы один из двух неизбежно остался на месте» .
В обеих своих дуэлях Лермонтов действительно выказал себя противником дуэли: он, насколько мог делать это, не нарушая ритуала дуэли, устранялся от нападения на противника.
В официальном своем донесении полковому командиру (Н.Ф. Плаутину. – А.А.) о поединке с Барантом (1840) Лермонтов писал: «Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва мы успели скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись». В действительности, Лермонтов, отличный стрелок, не «опоздал», а не хотел стрелять в противника.
Еще более определенным противником дуэли Лермонтов держал себя в роковом поединке с Мартыновым. По словам секунданта А. Васильчикова, когда скомандовали: «сходись», «Лермонтов остался недвижим и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслонясь рукою и локтем по всем правилам опытною дуэлиста... Я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов подошел к барьеру (т. е. стрелял в предельной, допускаемой условиями дуэли, близости в противника, который стоял недвижим с поднятым вверх пистолетом, показывая этим, что не будет стрелять. – В скобках замечание С.Н. Дурылина. – А.А.) и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте».
Мартынов убил поэта, заведомо не подвергаясь ни малейшей опасности быть убитому. Это было убийство, а не дуэль. «Лермонтову так жизнь надоела», писала Е. Быховец из Пятигорска, описывая дуэль, «что ему надо было первому стрелять, он не хотел, и тот изверг имел духа долго целиться, и пуля навылет» .
Поведение Печорина во время дуэли сложно.
Он подвергает нравственному испытанию совесть и честь Грушницкого, выжидая, что тот не пойдет на прямое убийство, зная, что пистолет противника без пули. Для этого Печорин, к ужасу доктора, ставит себя безоружного, не только под пулю, но и подвергает себя величайшей опасности даже при ничтожной ране, свалиться в пропасть. Для Печорина здесь – ставка на веру в человека. Он тщательно наблюдает Грушницкого и радостно отмечает: «Он покраснел, ему было стыдно убить безоружного». Если б в этот момент Грушницкий, бросив пистолет, кинулся к Печорину, ставка на человека была бы выиграна и в личности Печорина произошел бы, может быть, сдвиг в сторону от холодного скепсиса и презрения к людям. Положение безоружного Печорина, стоявшего под пистолетом Грушницкого, здесь сходно с положением Лермонтова, недвижно, с поднятым вверх пистолетом, со спокойной улыбкой стоящего под дулом идущего на него Мартынова: Лермонтов также выжидал от Мартынова движения, свидетельствовавшего, что «ему стыдно убить» человека, молчаливо, но ясно показывающего, что он не будет убивать.
Но Печорин ставит под дуло Грушницкого еще и другое чувство, быть может, желание: «Какое вам дело, – возражает он Вернеру, пытающемуся остановить готовящееся убийство. – Может быть, я хочу быть убит»! Это то самое чувство, даже желание, которое было и у Лермонтова: оно, на основании его собственного полупризнания, отмечено в письме Быховец. Печорину, как и Лермонтову, было свойственно то отношение к смертельной опасности, которое выражено Пушкиным:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог.
Печорин знал это наслаждение быть «под чеченскими- пулями» (см. «Бэлу»), он его испытывал на море, в лодке, в борьбе за жизнь с контрабандисткой («Тамань»), он толкал других на эту игру со смертью (пари с Вуличем в «Фаталисте»). Стоя под дулом Грушницкого, Печорин испытал это «неизъяснимое наслаждение» до конца, до возможного предела; побивая ставку на совесть человека, Грушницкий «целил ему прямо в лоб». Печорин ранен. Он едва-едва избежал опасности упасть в пропасть.
Потрясенный предательством, Печорин все-таки еще задерживает свою уверенность, что его ставка на человека бита: он «смотрит пристально в лицо» Грушницкого, «стараясь заметить хоть легкий след раскаяния». Вместо раскаяния он встречает усмешливую улыбку. Тогда он разоблачает всю историю с незаряженным пистолетом и делает последнюю попытку примирения. Но примирение уже невозможно для Грушницкого: оно было бы для него, с точки зрения офицерской и дворянской чести и морали, гражданским самоубийством.
«Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и в любви княжны к нему; самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печорина; самолюбие не допустило его послушаться голоса своей совести и увлечься своим добрым началом, чтобы признаться в заговоре; самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека; то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание» .
Печорин стреляет в Грушницкого. «Finita la comedia» – «комедия окончена» – его единственные слова в эпилоге дуэли.
Сильнейшее потрясение Печорина от совершившейся трагедии Лермонтов выражает с предельной сжатостью и силой: «Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели». От ужаса совершившегося Печорин ищет спасения в одиноком блуждании среди природы. Примечательно, что в своем потрясении Печорин не замечает на этот раз и природы: обо всем своем долгом странствовании – дуэль началась рано утром, а в Кисловодск он вернулся, когда уже солнце садилось – он может припомнить только: «я ехал долго, наконец очутился в месте мне вовсе незнакомом».
Воистину «поведение Печорина во время дуэли сложно», и мы позволим еще дополнительный комментарий.
Дуэль эта ведется не по правилам, хотя и опытными людьми. Ладно, секунданты здесь не стараются примирить соперников, а только обговаривают условия драки и даже (капитан) всячески разжигают ее: можно, в духе слов Вернера, списать это на военное время.
Нарушено и другое очень существенное правило, что, скорее всего, и смогло привести к гибели Грушницкого. После получения вызова все переговоры между соперниками должны вести секунданты. Это объяснимо тем, что, ведя разговоры с враждебной стороной, дуэлянт может влиять на своего соперника, т.е. делать поединок менее объективным. Так, Пушкин на дуэли с Дантесом высказывает мнение своему секунданту Данзасу. а уж тот сообщает его противникам (в идеале – тоже секунданту). Вот и секундант Дантеса д’Аршиак писал: «Мне необходимо переговорить с секундантом, которого вы выберете – и это в возможно-скором времени». Так по правилам.
Но уже явившись на дуэль, Печорин и Грушницкий начинают препирательства: «– Объясните мне ваши условия… – Вот мои условия: вы нынче же публично откажитесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения… – Один из нас непременно будет убит. – Желаю, чтобы это были вы. – А я так уверен в противном.»
Так делать было нельзя, но за этими препирательствами видно и другое: Печорин начинает методично подавлять и бесить своего противника. Мы помним, что одной репликой драгунскому капитану Печорин признал, что Грушницкий прав и он провел-таки ночь с княжной Мери. То есть сам же подтвердил правоту Грушницкого – каково же после этого требовать признания правды за клевету и извинений! Это новое издевательство и оскорбление.
Затем Печорин накануне выстрелов предлагает новые условия дуэли, еще более жестокие, причем в которых соперники не могут стрелять когда вздумается, а строго по очереди. Опять же в идеале условия дуэли составляются письменно и заранее и изменению не подлежат. Почему Печорин это делает? Ему важно именно то, чтобы выстрелы противников были разведены между собою, чтобы у него, Печорина, был случай перезарядить свой пистолет. Так Печорин отвечает обманом и интригой на предшествующий обман со стороны Грушницкого: решение не зарядить пистолет Печорина. Но так и сама дуэль перерастает в поединок психологический: оружие здесь не пистолеты или шпаги, а человеческая хитрость. И Печорин должен здесь победить и, конечно, побеждает.
Невозможно представить, как бы повел себя Печорин, если бы жеребий дал ему первый выстрел. Тогда вся интрига была бы сорвана. Ему был нужен только второй выстрел – и он его получил: это ведь нетрудно сделать на страницах бумаги, своим пером?
Вообще в дуэли стрелять вторым выгоднее, так и поступали опытные дуэлянты, это известная тактика: не подходя к барьеру, т.е. на максимально дальнем расстоянии, выдержать первый выстрел (разумеется, приняв допустимые предосторожности: обычно вставали боком и поднимали пистолет, загораживая так голову, а локтем – грудь), а затем подойти к барьеру, потребовать к нему и соперника, если тот не дошел до своей метки, и расстрелять в упор (примерно так было в знаменитой четверной дуэли Шереметев – Завадовский – Якубович – Грибоедов). Между прочим, С.Н. Дурылин неверно интерпретирует такое поведение самого Лермонтова, да еще вставляя свою неоговоренную реплику в свидетельство секунданта Васильчикова (тот ведь прямо указывает, что Лермонтов действовал «по всем правилам опытного дуэлиста»). Другое дело, что подобная тактика не всегда приносила успех: убивали и с первого выстрела.
Что же мог сделать Печорин, чтобы максимально повысить вероятность промаха стреляющего первым? Только то, что он и делает: довести противника до такого психического состояния, когда сосредоточиться невозможно. И это тоже известная тактика, но – в нарушение дуэльного кодекса. И так действовал Пушкин на дуэли с Кюхельбекером: издразнил его так, что тот в припадке выстрелил настолько мимо, что чуть не попал в секунданта – Дельвига. Теперь понятно, почему дуэль запрещала всякое непосредственное общение между противниками – только через секундантов… (Ср. литературный пример – дуэль в «Бесах» Ф.М. Достоевского: «Вы только меня раздражаете, чтоб я не попал. – Он (Гаганов) топнул опять ногой, слюна брызгала с его губ… Руки его слишком дрожали для правильного выстрела».)
Итак, Печорин всячески издевается над Грушницким, вплоть до возгласа: «Берегитесь! не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!» (каково издевательство: твой убийца тебя же и бережет). Зная неуравновешенность Грушницкого, уже и этого было бы достаточно.
Но далее: Печорин рассчитывает, что его соперник будет не только раздражен, в состоянии истерики, но и одновременно расслаблен: ведь он думает, что выстрел Печорина ему ничем не грозит. К этому добавим: Грушницкий, идя на низость (не зарядить пистолет противника), еще и внутренне не удовлетворен собою, не уверен в себе (Печорин заметит: «ему было стыдно убить человека безоружного»). Он, кроме того, чувствует и то, что он слаб, им руководит какой-то безмозглый капитан и вся шайка… Да еще и ошеломлен тем, что не имеет полной ясности в мотивах своего соперника: Печорин требует признать ложью то, в чем сам вроде признался походя драгунскому капитану. Все это совершенно несовместимые состояния души, они просто раздирают личность Грушницкого, превращают в ничто. Точно выстрелить при этом можно было только случайно (как Пьер Безухов в Долохова). А Печорин верит не в случай, а только в личность: личности перед ним и не было на поединке.
В результате «Грушницкий начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. <…> Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту: – Не могу, – сказал он глухим голосом. – Трус! – отвечал капитан. Выстрел раздался» – и мимо, разумеется; капитан еще и сыграл на руку Печорину своей репликой. Ну кто после этого попадет в цель?
Внесем еще три детали.
Сам Печорин говорит: «Я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка». Здесь характерная для Печорина психологическая точность: мысль может помешать поступку, он, собственно, на это всегда и рассчитывает (поэтому отчасти и неправдоподобен, как все строго рассчитанное). Мысли и помешали Грушницкому. Но вот что важно: стреляющий первым не должен делать выстрел в воздух, просто не имеет права: это воспринимается как шантаж или оскорбление, попытка поставить соперника в неловкое положение, заставить тоже стрелять мимо. Только стреляющий вторым может позволить себе такое, у второго, повторим все преимущества в дуэли. Так стрелял и сам Лермонтов в дуэли с Барантом: вторым и на воздух.
Но Печорин задумал выстрелить не на воздух…
Поясним и следующее: пуля Грушницкого оцарапала мне колено, пишет Печорин. А не значит ли это, что и психологически раздавленный, Грушницкий сознательно метит в несмертельное место на теле противника? Этот дуэльный прием тоже известен, вплоть до афоризма из «Евгения Онегина»: и метить в ляжку иль в висок. Так, а не выстрелом на воздух выражалось желание решить дуэль малой кровью. Ср.: Завадовский в помянутой четверной дуэли жестоко и просто убивает Шереметева после того, как тот своим первым выстрелом задел ему воротник: «Ах, он посягал на мою жизнь. К барьеру!» Делать было нечего, – Шереметев подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный (по рассказу А.А. Жандра). Похоже, Грушницкий метит в ляжку. А уж Печорин – в висок.
Наконец, вся эта история не могла бы состояться, если бы было соблюдено такое правило дуэли: стрелять из новых, одинаковых (парных) пистолетов, не опробованных никем и убедиться перед дуэлью в правильности зарядов (обычно особо оговаривалось, как засчитывать осечки пистолета). Так и Пушкин со своим секундантом покупает перед самой дуэлью пистолеты Лепажа. А у Печорина – капитан между тем зарядил свои пистолеты. Так что за свои пистолеты были у капитана? Это правило было обусловлено качеством тогдашнего оружия: каждый экземпляр имел свои явные особенности, а заряды делались непосредственно перед выстрелом и секунданты следили, чтобы было насыпано одинаковое количество пороху и вложены одинаковые пули, ведь готовых патронов тогда не было. Скажем, отмерить разное количество пороху значило заведомо изменить шансы дуэлянтов. Кстати, спустя много лет после роковой дуэли Пушкина было выяснено, что его пистолет изначально имел меньшую убойную силу, чем пистолет Дантеса.
Учитывая все сказанное выше, остается только припомнить пророческие слова драгунского капитана: «Поделом же тебе! околевай себе как муха…»
Утешает, как всегда, только то, что вся эта история смоделирована Печориным на бумаге, реальная жизнь едва ли бы сложилась так рационально, гладко. – А.А.
«Я молился, проклинал, плакал, смеялся… Я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько».
таково состояние во время преследования Веры, состояние настоящего нервического припадка. Трудно представить слова молитвы у Печорина, помня, что и у Лермонтова содержание нескольких стихотворений с названием «Молитва» контрастно – от благости до брани («Я, Боже, не тебе молюсь», 1829). Можно сравнить с фрагментом из «Мцыри»: Тогда на землю я упал; // И в исступлении рыдал, // И грыз сырую грудь земли, // И слезы, слезы потекли…
«Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска».
Печорин утром «получил приказание от высшего начальства отправиться в крепость», около полудня «зашел к княгине проститься» и «через час» после свидания с Лиговскими мчался к месту новой ссылки на «курьерской тройке», вероятнее всего, в сопровождении фельдъегеря, как экстренно высылаемый.
«Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни манит его тенистая роща, как ни светит ему мирное солнце...»
Этим лирическим образом Печорин включает свою личность в семью тех вечных странников-отверженников, неуемных мятежников, скитальцев, которых Лермонтов с юношеских лет выводил в своих поэмах («Исповедь», «Измаил-бей», «Моряк», «Боярин Орша», «Мцыри и т. д.), каким был сам и каких символизировал в сходном образе паруса (1832):
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
|